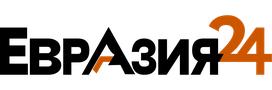Главное мы сказали: после введения президентом США таможенных пошлин против основных своих торговых партнеров глобализация уже необратимо пущена обратным ходом. Как и полагается по ходу исторической спирали, на новом витке мы возвращаемся в конфигурацию двухполярного мира, но в принципиально иной, чем во времена противостояния капиталистического и социалистического лагерей комбинации участников.
Но сейчас мы не о том внешнем раскладе, в котором оказывается Казахстан, со всеми вытекающими новыми великолепными возможностями, но с предельными рисками, а о том, как нам удержать внутреннюю стабильность. Будем откровенны: весь тот заданный Кантаром обновленческий пафос 2022-2023 годов… не то, чтобы выдохся, но потерял продолжение. В официальных речах этого можно не признавать, однако ни удвоения ВВП, ни влиятельного парламента при сильном президенте, ни вообще переделки старого Казахстана в Новый и Справедливый как-то не получается. И вообще, все то, для чего проводились конституционный референдум и президентские перевыборы 2022 года, что было сказано в президентском послании народу и во всех заданиях правительству в 2023 году в нынешнее время «провисло» либо вообще без реализации, либо без продолжения.

Говорим это не в укор, а в констатацию: новые времена требуют новых действий, новых лозунгов и обещаний.
Главный для Казахстана вызов на сегодня – недостаточная субъектность. Мы (это очень вежливо говоря) не полностью субъектны в выстроенной четверть века назад «вывозной» экономической модели. Наше государство покорно, можно даже сказать, умело и с удовольствием, отказалось быть субъектом в определении национальной монетарной, — в курсовом, кредитном и инвестиционном разрезах политики, отдав это на откуп частному бизнесу, в основном иностранному. Точно так же нам не хватает субъектности, — прежде всего, инвестиционной, в отношении новых логистических, инфраструктурных и промышленных проектов, осуществляемых Китаем и Россией на нашей территории.
Но более всего нашему государству не хватает внутренней субъектности, о чем и хотим поговорить.
Всякая власть есть, с одной стороны, набор конкретных ее носителей, человеческих персоналий и их группировок, упакованных в семейно-родственные, клановые, корпоративные или конфессиональные отношения. С другой стороны, устойчивость такой человеческой основе власти придают институты, это, примерно, как многоквартирный дом-кондоминиум, обеспечивающий сразу и автономию, и совместные условия жизни всем обитателям.
Наша проблема – гипертрофированная роль персоналий и клановых группировок при совершенно недостаточной, — вторично-вспомогательной роли государственных институтов. Причем проблема совершенно объективная: после исчезновения СССР либо сразу, либо постепенно, но фактически полностью исчезли и институты советской государственности. А с переносом на местную почву заимствованных на Западе капиталистических институтов тоже не заладилось, и тоже по вполне объективным причинам. Мы вписаны в мировой рынок в качестве экспортно-сырьевой и инвестиционной периферии, поэтому у нас не капитализм, а рыночный феодализм. Провал между прежней и новой институализациями пришлось заполнять эдаким суррогатно-приспособительным образом: как бы избираемые Сенат, Мажилис и маслихаты, как бы местное самоуправление, как бы самоорганизация жильцов в КСК и ОСИ.
В этом очень и очень большая проблема власти: пытаясь создавать себе партнеров: с бизнесом – через НПП «Атамекен», с обществом – через НПО, с профсоюзами – через трипартизм, с городами и сельскими поселениями через МСУ, с горожанами – через КСК, она эти партнерские отношения категорически не может поставить на действительно институциональную основу. По совершенно очевидной и тоже вполне объективной причине: в институциональном взаимодействии стороны – равны, ни одна сторона не выше и не ниже, никто никому не подчиняется, но – взаимодействуют. На некоей соблюдаемой сторонами правовой основе, наборе взаимных прав и обязательств, прописанном либо в Законе, например, о «Местном самоуправлении» или о «Государственном социальном заказе», либо в конкретном договоре на исполнение таким-то НПО такого-то госсоцзаказа.
Верховодящая роль государства здесь в одном: в создании такого Закона, по которому оно само – государство, в лице прописанных в законе государственных органов становится равноправным партнером городскому-сельскому самоуправлению ли, бизнесу ли, профсоюзам ли, жителям ли городских многоэтажек.
Поскольку же в нашей остро персонифицированной системе власти на острие всех проблем и возможностей находится президент, вот наше предложение, читайте – и задание тоже, для нового вдохновляющего общество этапа президентской политики: еще раз посмотреть на уже сделанное.
Смотрите: президент Токаев вскоре после прихода на пост сказал о необходимости закона о народном контроле. Правительство делало долго-долго, сделало закон «Об общественном контроле», но это сознательно неработающая пустышка.
Была целая эпопея с очередной попыткой создать местное самоуправление, выпущена новая Концепция, под нее новая версия закона об МСУ, потом все это корректировалось, дело закончилось распространением выборов на акимов районного уровня, — решением более чем спорным. С одной стороны, всякие выборы у нас контролируются, то есть все остается как было. С другой стороны, играться с выборами территориальных представителей президента и правительства в унитарном государстве — чревато. Нужно совсем по-другому: определить самостоятельную ответственность городских властей по таким-то вопросам местной жизни, дать им собственные бюджетные ресурсы и перевести на выборность. Причем выбирать не акима, а городских депутатов, а те уже формируют исполнительный аппарат.
В Мажилисе сейчас в очередной раз упражняются с очередной версией закона о жилищных отношениях, эта бесконечная эпопея тоже требует президентского вмешательства. Хоть с КСК, хоть с ОСИ только тогда появится толк, когда в организацию управления жилым фондом непосредственно включатся сами городские власти.
Таких вопросов укрепления государства за счет взаимодействия с собственной страной – масса, мы о них будем говорить. А также напоминать о том, что уже предлагали.
Однако в нынешний критический момент важна расстановка приоритетов, и главное сейчас – не допустить выхолащивания новой Концепции внутренней политики. Если выделить самую суть, то необходимо недвусмысленное двуединство казахоговорящей и русскоязычной части общества. Для этого сугубо идеологическое и несоответствующее Конституции положение закона «О языках», объявляющее овладение казахским долгом всех граждан, аккуратно перевести в формат квалификационных требований знания государственного языка при занятии таких-то должностей.

И, конечно, очень сильным ходом со стороны главы государства стали бы знаковые перемены в кадровой политике. Времена «первоначального накопления капитала» клановыми верхушками далеко позади, демонстративное этническое доминирование на ключевых постах становится ненужным и только снижает устойчивость власти. Если состав первых лиц в центральных органах, в регионах и городах начнет соответствовать демографическим пропорциям, страна поймет, что движение в новый Казахстан началось.