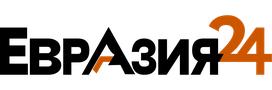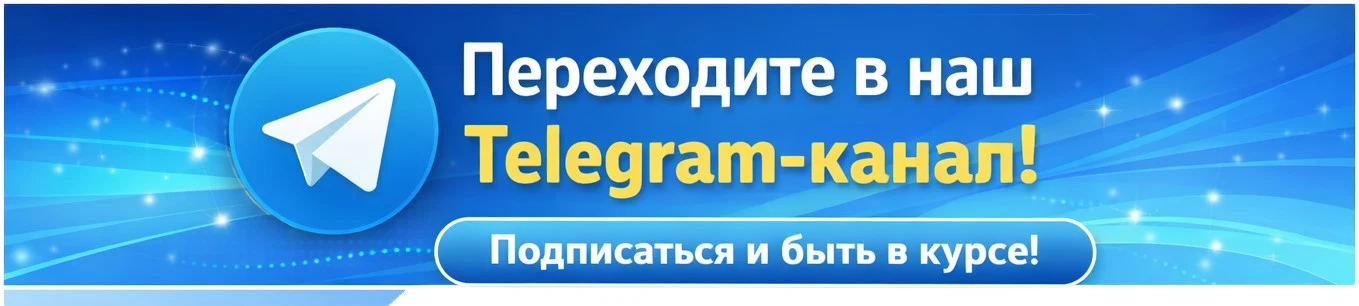Концепцию внутренней политики мы пока не дождались, а концепция внешней политики Казахстана, принятая в довоенном 2020 году, явно требует обновления.
При том, что «эрозия современной модели глобализации и международной торговой системы» была зафиксирована уже тогда, та концепция была выстроена на «преемственности внешнеполитического курса Первого Президента – Елбасы; содействии построению стабильного, справедливого и демократического мирового порядка; равноправной интеграции в мировое политическое, экономическое и гуманитарное пространство». Одним словом, наша фирменная, начиная со Стратегии «Казахстан-2030», многовекторность.
В подтверждение, еще цитата: «Многовекторность, прагматизм и проактивность, означающие развитие дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми государствами, межгосударственными объединениями и международными организациями, представляющими практический интерес для Казахстана». Ни одного лишнего слова про Россию, ЕАЭС и ОДКБ.
Опять-таки, первым пунктом в перечислении целей и задач стоит «укрепление независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности страны, сохранение самостоятельности внешнеполитического курса». А если обобщить, то все построено на такой концептуальной и практической связке: многовекторность, как гарантия высшей национальной ценности – независимости.
В конце концов, ведь и казахстанские атакующие медиапроекты типа «Елмедиа», «Орды» или «Айрана», кликушествующие насчет агрессивных намерений России и прямо-таки призывающие ее поскорее напасть или хотя бы оттяпать северные территории, тоже исходят из концепта «независимость=многовекторность».
Между тем, вся наша привычная постсоветская многовекторность с самого начала была лишь внутреннем разветвлением строго прописанному Казахстану следованию… единственному руководящему и направляющему вектору — «Вашингтонскому консенсусу», — сводом макроэкономических правил, разработанных МВФ и Всемирным банком. Правила эти появились в конце 80-х годов, как бы целенаправленно для государств Латинской Америки, испытывающих кризис из-за излишнего, по мнению вашингтонских офисов, дирижизма и недостатка свободного рынка. Однако, они имели универсальный характер и равно годились для Африки и тех других постколониальных государств «третьего мира», которые ориентировались на капиталистический, а не социалистический путь развития.
Случайно или нет, но явление всему миру правил «Вашингтонского консенсуса» пришлось на распад СССР и наиболее подошло именно нам: ровно по ним выстраивались все постсоветские «суверенные» экономики, а заодно и этно-государственности.
Мы эти правила хорошо знаем: плавающий курс национальной валюты, сжатие социальных расходов бюджета, ставка на иностранные инвестиции, невмешательство государства во внешний платежный баланс, всяческая приватизация и минимизация присутствия государства в экономике. Сюда же верстаются антисоветизм в русофобской упаковке, этнический национализм, отрицание интеграции, переход на латиницу – вот это все. Понятно, что казахский, киргизский, узбекский, грузинский или молдавский национализмы – они немножко разные. Равно как и отрицание общего советского прошлого тоже разное в исполнении разных постсоветских «суверенов». Но вектор – один и тот же, отталкивается он от местной почвы, но задан универсальным внешним образом и направлен на то, что именно такие разделенные этно-национализмом «независимости» обеспечивают наиболее эффективную внешнюю эксплуатацию, в том числе многовекторную.
И здесь надо сказать вот что важное: многовекторность по направляющей «Вашингтонского консенсуса» — это, безальтернативно, самые нижние, — сырьевые ниши в мировом разделении труда, обороте технологий, товаров и инвестиций. На это, собственно говоря, и направлен набор макроэкономических правил специально для стран «третьего мира», политкорректно переименованных в «развивающиеся»: они должны служить ресурсной периферией, поставщиками природного сырья и дешевого труда для развитого мира. Поэтому нашу внутреннюю связку независимости и многовекторности с внешней точки зрения следует дополнить еще одной составляющей: «независимость=многовекторность=колониально-придаточное качество на мировом рынке».
Так вот, вся наша уже четвертьвековая (с конца девяностых-начала нулевых лет, когда правила «Вашингтонского консенсуса» были полностью имплементированы Казахстаном) многовекторность была возможна исключительно потому, что и Европейский (Тенгиз, Карачаганак и Кашаган), и Китайский (Кумколь, Жанажол, нефте- и газопроводы) и Российский (нефтепровод КТК и поставки промышленных и продовольственных товаров на казахстанский рынок) вектора экономического взаимодействия тоже укладывались в соблюдение и Евросоюзом, и Китаем, и Россией правил «Вашингтонского консенсуса».
Но с приходом президента Трампа в одно-векторном глобальном раскладе случилась такая «малость»: «Вашингтонский консенсус» отменен в… Вашингтоне. Мировая история как бы пущена обратным ходом: глобализация начинает необратимо расходится по своим прежним составляющим: США отделяются Европы, оставляя без крыши Евросоюз и НАТО, союзничая в этом с Россией и готовясь к разрыву экономического симбиоза с Китаем.
Соответственно, в расходящемся по историческим швам многополярном мире на каждом полюсе начинает формироваться свой эксклюзивный направляющий вектор, по которому будет структурироваться все контролируемое этим полюсом пространство. И тут важно осознать вот что: нынешняя казахстанская многовекторность, при всех союзнических отношениях с Россий, на самом деле нанизана именно на Вашингтонский вектор. В который Московский и Китайский векторы до последнего времени как-то еще укладывались, а уж вектор ЕС вообще был слитен с Вашингтонским. Тогда как содержанием нынешнего 2025 года и всего ряда следующих становится как раз то, что глобальные векторы растопырились: где-то друг против друга, где-то перпендикулярно, где-то в параллель.
Результирующая их комбинация сложится за 2030 годом, но уже сейчас ясно: новый направляющий вектор для Казахстана, точно, не будет Вашингтонским. То есть, еще до завершения президентской каденции в 2029 году перед Казахстаном встает вызов полного переформатирования как макроэкономической, так и вообще всей внешней и внутренней политики. По новому направляющему вектору, а вот насколько он будет чисто Российским, или Китайским, или результатом их сложения, или прежний «Вашингтонский консенсус», воспроизведенный в виде некоей Берлинской-Парижской-Лондонской комбинации, так и останется для Казахстана стержневым, — об этом стоит подумать уже сейчас. Хотя бы для того, чтобы быть морально готовыми к экзистенциональным переменам. А еще лучше – самим заранее начать подготовку к ним.
В этом смысле ключевая для заблаговременной подготовки мысль: одно дело оказаться на периферии, — на указующем конце вектора, идущего из нового полюса силы. И совсем другое, вовремя самоопределиться и постараться стать не периферией, а органической частью того нового Евразийского полюса, из которого и пойдет структурирующий вектор.
Еще раз: ныне правящий политический и бизнес-класс Казахстана (за скобки выводим только президента Токаева и, может быть, еще двух-трех ключевых лиц) по-прежнему пока еще сориентирован на Вашингтонский консенсус. Точнее, на незыблемый, в его понимании, союз Вашингтон-Брюссель. Единственно, что изменилось в таком понимании после перехода Вашингтона на фактическое партнерство с Москвой, это вера, что Трамп есть просто случайность, которую теперь предстоит пережить, и они этот исторический выверт переживут. И что политика многовекторности, с переориентацией указующего вектора на Берлин-Париж-Лондон и сориентированный на них Киев, по-прежнему единственно правильная для Казахстана.
Ну что же, коль скоро наши самые непоколебимые националисты и самые убежденные сторонники Запада все-таки признают фрагментацию глобализации, стоит произвести самые элементарные выкладки: на какие новые центры силы расходится мир.
Все очень просто: расходящаяся по историческим швам глобализация выводит на первый план тот самый старый добрый фактор борьбы за ресурсную самодостаточность, который и задавал вектор истории человечества от Вавилона до наших дней.
А именно: лишь те, и только те фрагменты раскалывающего мира обеспечат собственную устойчивость, возможность задавать правила для своей полу-периферии и периферии, и на равных взаимодействовать с другими полюсами, которые будут иметь на своих, или надежно контролируемых ими территориях, весь набор современного жизнеобеспечения, прежде всего – продовольственного. И, само собой, возможность защищать эту свою продовольственную и общую ресурсную самодостаточность от любых внешних посягательств, в том числе военной силой.
А из необходимости обладания военной силой, не меньшей, чем у других полюсов, вытекает и требование индустриализации и энергообеспечения самого высокого на данный момент мирового качества. Это так, поскольку современная «оборонка», это весь комплекс от черной и цветной металлургии до редкоземов, АЭС, ИИ и Космоса.
Так вот: на земном шаре только два удовлетворяющих этим базовым требованиям географических и политических субъекта: Соединенные Штаты и Российская Федерация. И это – все. Ни Европа, ни Китай, ни Индия, ни ШОС и БРИКС во всем наборе, ни вообще никакой другой континент, ни одна страна или их объединение критериями полной продовольственной и оборонной самодостаточности не обладают. И шансов на достижение такого обладания в обозримом будущем не имеют.
Да, технологически Россия сейчас серьезно отстает от США, от Китая и от Евросоюза, но это дело поправимое. Тогда как по базовому ресурсному обеспечению она безусловно впереди: практически все есть даже в пределах существующих границ. СВО – это борьба не за ресурсы, а за освобождение исторического пространства от присутствия враждебных военной и идеологической силы. Хотя возвращение на историческую родину ресурсного потенциала Украины тоже не помешает.
Что же касается дальнейшей экспансии России, внушающей ужас правительствам Балтии, Польши и даже Германии: там интерес исключительно в возобновлении ресурсного взаимодействия, как раз-таки спасительного для Восточной Европы и той же Германии. После военной развязки на Украине и смене настроенных на войну режимов, «агрессия» России в Европейском направлении сменится необходимостью наведения порядка в Руине, в которую уже превращена Украина и помощи самой Европе, оказывающейся без военной и финансовой крыши США и без энергообеспечения в предотвращении ее хаотизации,
То же и в Центрально-Азиатском направлении: ЕАЭС – это не экономический, а политический проект, пока законсервированный исключительно в формате торгового взаимодействия. Которое, в остаточном после СССР виде, существовало и до создания Таможенного и Евразийского экономического союзов.
Дальнейший политический смысл ЕАЭС, после украинской СВО, это контроль над экспортом энергоресурсов, — в том числе через пересмотр присутствия компаний из «недружественных» государств на наших Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане. Чему безальтернативный транспорт нефти по трубопроводу КТК до Новороссийска будет очень способствовать.
Плюс экономический формат: реализация межгосударственных электроэнергетических, газотранспортных, железно-автодорожных и промышленных проектов, в том числе на территории Казахстана.
В таком контексте весьма желательно было бы трансформировать ЕАЭС из банально торгового формата в союзно-инвестиционный, и тут два принципиальных на ближайшую после СВО перспективу вызова: для России это перевод рубля из статуса «русского доллара» в суверенный инвестиционный формат, для Казахстана – присоединение к союзной государственности.
В целом же перспективы Евразийского союзного Центра в новом не однополярном мире – просто блестящие: имеется гарантия не просто полного ресурсного самообеспечения, но и полномасштабного, — нефть-газ, электроэнергия, линейка металлов, продовольствие, — экспорта. В обмен уже не на долговые бумажки в Нацфонде, а на недостающие знания и технологии, экзотические товары и дальний туризм.
Сюда же и экспорт военной силы, — не менее дефицитного товара в новом мире. Это и самая дешевая (свои энергетические и металлургические ресурсы) и при том лучшая в мире военная техника, и услуги политико-дипломатического арбитража, подкрепленного мобильным миротворческим контингентом в неспокойных точках на периферии самой Евразии и на самых дальних континентах.
Что касается другого полюса – США: планы Трампа по присоединению Канады и Гренландии – это как раз про ресурсную самодостаточность. Равно как контроль над Панамским каналом обеспечивает самодостаточность логистическую. В целом же пересечение интересов США с Россией – минимальное, фактически заканчивающееся почти уже достигнутой договоренностью по разделу интересов на Украине и в Европе. Потом останется только конкуренция американского и российского СПГ для поставок в Европу и на другие рынки, при этом стратегические газопроводы и здесь обеспечивают конкурентное преимущество России.
В целом Россия, и пока только она одна, по завершению СВО обретает уже необходимую ей свою часть глобального мира, без нужды сражаться за свой интерес с другими полюсами. Наоборот, с возможностью выбирать лучшую для нее тактико-стратегическую позицию при еще только начавшемся тяжелейшем разделе США с Китаем и с Евросоюзом.
Насчет нашего соседа Китая: он тоже несомненный — третий и последний по счету главный полюс нарождающегося многополярного мира. Да, его неустранимой слабостью является внешняя энергетическая и продовольственная зависимость, как и зависимость от поставок на внешние рынки. И еще громадной для него проблемой является окончание Чимерики – экономического симбиоза с США-Европой. Все ближайшие годы Китай ждут большие, очень большие проблемы. Как и у Евросоюза и у самих США. Ну что же, тем больше оснований у Китая сохранять даже не ситуативное, а стратегическое партнерство с Евразией.
Именно партнерство, тогда как тезис, что Россия, поссорившись с Западом, полностью попадает под Китай, — он от непонимания или искусственного искажения реального соотношения потенциалов и возможностей в пост-глобальном мире.
В заключении про казахстанскую многовекторность: ее сохранение в официальной политике, может быть, соответствует пока общей стратегии в ЕАЭС. Однако тот факт, что в общественно-политическом поле Казахстана почти не представлена Евразийская интеграционная проблематика, что правительство и квази-госсектор сплошь заполнены продуктами «Вашингтонского консенсуса», а в Мажилисе переизбыток националистов – это наша стратегическая слабость. Нельзя смотреть в будущее, глядя назад.
И эту стратегическую слабость пора срочно преодолевать.