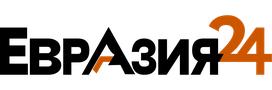Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений главы государства в части увеличения финансирования реального сектора экономики банками второго уровня. Дело самое обычное, поручений на ту же тему еще в бытность первого президента выдавалось раз сто, как минимум. Форматных совещаний в правительстве проводилось, само собой, столько же. Так и сейчас, представлены все стороны: БВУ — коммерческие частные банки второго уровня во главе с Национальным банком, Национальный управляющий холдинг «Байтерек», под который собраны государственные институты развития, надзорные финансовые органы, само правительство и Нацпалата.
Ничего нового: в новом Казахстане президент Токаев тоже поднимал эту тему, наверное, уже раз десять, как минимум. Собранное работающим менее двух лет премьером совещание тоже не первое. Итоги – тоже ровно как всегда: те же, что и пятнадцать, и десять, и пять лет назад отчеты-выступления, те же констатации, те же поручения.
Но вот что действительно в первый раз, так это небывалый накал проблемы: именно сейчас повышенная потребность экономики в инвестициях и кредитах накладывается на резкое ослабление у государства возможностей, — из-за проблем с наполнением бюджета, эту потребность покрывать. А что касается коммерческих банков, у них как раз все как всегда: как не кредитовали производственный сектор, так и не кредитуют, как имели сверхприбыли в стороне от реальной экономки и за ее счет, так и имеют.
Сдается нам, что как раз на нынешнем критическом переломе проблема «наверху» не в способности оперативного реагирования, а в концептуальном осмыслении: как совмещаются частно-коммерческая и государственная половинки кредитно-инвестиционного комплекса. Да и совмещаются ли они, или аннигилируют друг друга?
Банковская половинка: она вся принципиально частная и принципиально коммерческая: цель и смысл деятельности – зарабатывание прибыли. Соответственно, в области промышленного кредитования ей просто нечего делать: кредит, отсчитываемый от установленной Национальным банком базовой ставки в 16,5%, принципиально не окупается. Точнее, он окупается при некотором наборе краткосрочных торговых операций, при импорте лекарств, например, когда баснословная кредитная наценка ложится на посетителей аптек или при госзакупках, когда наценка ложится на бюджет. А что до инвестиций в производственные фонды, то есть в развитие, здесь даже двойной запретительный барьер: неподъемная стоимость коммерческой инвестиции и минимизированная платежеспособность покупателей на внутреннем рынке.
Мы чуть было не написали «о том и другом позаботилось Национальный банк и правительство», но нет, это будет не совсем правдой. Правда в том, что Нацбанк и правительство являются всего лишь проводниками внешне заданной курсовой и денежно-кредитной политики, направленной… Вы не поверите, на полную оптимизацию экономической модели Казахстана, доведение ее до, можно сказать, идеала.
В чем суть этой модели, которую мы с полным основанием можем назвать «вывозной»? Она в том, что Казахстан является поставщиком всячески удешевляемого нефтяного и металлургического сырья на внешние рынки. И является импортером с этих внешних рынков полного набора товаров и услуг, кроме тех товарных ниш на внутреннем рынке, к которым у внешних поставщиков просто нет интереса. Соответственно, вся такая экспортно-импортная специализация Казахстана обеспечивается импортом иностранных инвестиций и займов, с соответствующим экспортом доходов от такого внешнего финансирования.
Повторим: это идеальная для Казахстана модель, — если нашу любимую страну рассматривать с точки зрения ее внешнего использования. И вот на реализацию этого идеала, — чтобы мировой рынок получал от нас максимум и затрачивал на нас минимум, как раз и направлена тщательно продуманная снаружи и старательно выстроенная изнутри банковская и финансовая система Казахстана.
На пути к этому идеалу мы прошли уже достаточно много, но еще не достигли цели, — кое-кто очень значимый прямо бревном лежит поперек дороги. Кто – не побоимся и сейчас назовем, но сначала зафиксируем конечную цель.
Идеальный Казахстан имеет экспортноориентированную промышленность, для которой вполне достаточно миллиона работников, с неплохой оплатой. Еще не обойтись без миллиона чиновников, вместе с корпусом силовиков и всякого рода разводящих, обеспечивающих «вывозную» экономику. Еще миллион кладем на всякого рода ресторанные, автомобильные, развлекательные сервисы для самих «сырьевиков» и обслуживающий их госаппарат. Заключительный миллион – это энергетическая, транспортная, торговая и строительная инфраструктуру, которая тоже необходима для обеспечения жизнедеятельности. Но – без излишеств, стоимость услуг инфраструктуры должна быть барьером для отсечения от нее всех, не вписывающихся в штатное расписание ЗАО «Старый Казахстан».
Итого идеальная численность населения – четыре миллиона работников и служащих, вместе с семьями достаточно десяти миллионов. В целом хорошо трудоустроенных и неплохо живущих. И если мы посмотрим, например, статистику ЕНПФ или расклады по уроню жизни и оплаты труда, убедимся, что примерно так оно и есть.
А другая половинка 20-миллионного населения Республики Казахстан – она для такой «вывозной» экономической модели попросту лишняя. Другое дело, что просто так ее со свету не сживешь, тут у правительства еще много работы.
А если хотите знать, что еще явно лишнее для такой внешне финансируемой «вывозной» экономики, так это — банковский сектор. В идеале, система должна была скукожится до трех-пяти банков, достаточных для ведения текущих счетов в местной валюте, проведения операций на внутреннем рынке и необходимой внешней конвертации.
Но частный банковский бизнес оказался слишком родным и близким для руководства старого Казахстана, и государство всей мощью встало на его защиту. Так, плюсом к внешне вмененному догмату борьбы с инфляцией через завышенную базовую ставку, родилось уже чисто отечественное ноу-хау: переориентация Национального банка с роли кредитора первой инстанции на роль главного заемщика у коммерческих банков. С печатью для них триллионной инфляционной «доходности». И вообще наша банковская и финансовая система вплотную подошла к идеалу: делают деньги из денег, не заморачиваясь реальной экономикой.
А еще государство Казахстан, разумеется, все же воспротивилось своей полной «идеализации» и взяло на себя финансирование всего того производственного и социального объема, который коммерческий банковский кредит обязан был умертвить. Это, прежде всего, аграрный комплекс, это инфраструктура, строительство социального жилья и много чего еще.
Так появились институты развития. Которые, с одной стороны, есть зачатки государственного планирования и целевого кредитования-инвестирования, с другой – полностью опущенные в ту же коммерцию и производство денег из денег.
Создание НУХ «Байтерек» никак не отменило принципиальную, — прописанную извне, инвестиционную и промышленно-кредитную импотенцию национальной валюты тенге. Отсутствие базового фондирования в сочетании с запредельной стоимость денег на местном рынке, это блокирование национальной экономики в пользу вывозной.
Где государственный «Байтерек» берет деньги для своих производственных, инфраструктурных и социальных инвестиций? Отнюдь не у государства – кредитора и инвестора первой инстанции. Сколь может, он берет у правительства, но эти возможности скукоживаются. Национальный инвестиционный холдинг, стыдно сказать, занимает деньги на внутреннем рынке, — при специально устроенной Национальным банком их чудовищной стоимости. И берет за границей, дополнительно вгоняя государство Казахстан в и без того разорительный внешний долг.
А в целом получается так: наши монетарные власти, еще четверть века назад выведенные на дорогу превращения Казахстана в сырьевой и инвестиционный придаток мирового рынка, взяли, да и бревном легли у себя же на пути.
И тут, как в байке про трусы и крестик, пора выбирать что-нибудь одно.