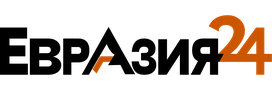Взбудоражившая бизнес, экспертное сообщество и само правительство, история с понижением планки и повышением ставки НДС, показательна не только сама по себе, но и как яркая иллюстрация того, куда мы «приплываем».
Дело в том, что потрясающий разрыв в бюджете на этот год: налоговые поступления – 15 триллионов тенге, расходная часть – 25 триллионов, образовался при фактически той же самой структуре, номенклатуре и объеме расходов бюджета, что были и пять, и десять, и пятнадцать лет назад. Некогда тот же самый бюджет был хронически профицитным и головной болью правительства из года в год было недоосвоение бюджетных программ. Ныне дыра в десять триллионов лишь наполовину закрывается уникально высоким траншем из Национального фонда, остальное придется закрывать некими внутренними займами у самих себя и новыми внешними заимствованиями. Что в результате только усугубляет разрыв между доходами и расходами.
Все просто: налоги исправно собираются и их поступление тоже растёт, но – темпом роста реального сектора. Расходы же растут темпом инфляции, неизменно двойным против роста ВВП.
Найденный, вроде бы, компромисс: ставка поднимается только до 16%, для сельхозпроизводителей она нулевая, а для некоторых отраслей промежуточная – 10%, на самом деле плох и для бюджета, и для бизнеса, и для населения.
Министерство национальной экономики, чтобы закрыть бюджетную прореху, планировало собирать от реформы НДС дополнительно 8-9 трлн тенге, теперь соглашается на 4-5. Из которых, между нами говоря, хорошо, если соберет половину. Бюджетный разрыв и ускоренное опорожнение Национального фонда все равно перекрывать нечем.
Что же до МСБ и населения, то даже 2-4 триллионов дополнительных сборов с и так уже минимизированного потребительского рынка — все равно перебор. Давайте не забывать, что НДС — это цена и это инфляция. Накинутые на цены потребительского рынка дополнительные два-три триллиона эквивалентно снижают покупательную способность граждан, а для бюджета повышение ставки НДС с 12 до 16 процентов даст такой дополнительный рост расходной части, за которым новые поступления могут и не угнаться.
В целом, вмененная Казахстану четверть века назад «вывозная» экономическая модель, со вписанной в неё компрадорской правящей верхушкой и обслуживающим госаппаратом (здесь мы цитируем одного нашего автора) совершенно явственно «приплыла»: без выхода за её рамки поддержание не просто бюджетной, но и общей социально-экономической стабильности уже невозможно. На полумерах еще продержаться можно: как-то наполовину удастся приподнять НДС, как-то наполовину урезать расходы, но, чем больше растягивать полумеры, тем явственнее пока еще только бюджетный и пока еще только правительственный кризис будет трансформироваться в общий кризис власти.
Выходы? Имеются, и сразу два.
Первый, это заход на пока еще неприкосновенное поле СРП – соглашений о разделе продукции по Тенгизу (Стабилизированный контракт), Карачаганаку и Кашагану. Фискалы из правительства действуют в предложенных им обстоятельствах: пытаются ещё раз остричь, а заодно и зарезать «барана» внутренней экономики. Тогда как даже не революционные изменения в зафиксированных ещё четверть века назад конфиденциальных платежных отношениях со страной пребывания элементарно обеспечили бы и наполнение бюджета, и перевод в плюс внешнего платёжного баланса Казахстана.
Второе, это создание национального промышленного кредита и национальных инвестиций. Пока политика Национального банка, — фактического органа внешнего управления, целенаправленно подавляет внутренний созидательный кредит и инвестиции, открывая дорогу иностранным инвесторам и заимодавцам. Причем механизмом подавления собственных инвестиций служит запредельная базовая ставка, попутно разгоняющая ту самую инфляцию, за которой не может угнаться бюджет.
Более того, и без того перенапряжённый бюджет вынужден финансировать то же сельское хозяйство и вообще субсидировать запретительные для национального предпринимателя ставки коммерческих банков, фактически спонсируя именно банки, а не производителя.
Уйди Национальный банк от роли «замыкающего» игрока на валютной бирже и займись прямым делом — планированием и обеспечением целевого кредитования промышленного сектора, враз стало бы на порядок легче и бюджету, и экономике.
Но тут проблема: Казахстану в одиночку не потянуть ни ревизии отношений с иностранными нефтедобытчиками, ни национализации кредитно-денежной политики.
То и другое объективно завязано на Россию и, конкретно, на исход СВО.
Пока что банковский и финансовый блок в Российской Федерации точно также, как и наш (мы следуем в фарватере) действует по вменённым еще в середине 90-х годов из-за рубежа правилам. Казалось бы, отношение с Западом разорваны в клочья, тем не менее, рубль по-прежнему — «русский доллар», как и наш тенге — «доллар казахский». Целенаправленно превращенные в кредитных и инвестиционных импотентов.
Национализация кредитно-инвестиционного дела в России грядёт несомненно, но и, несомненно, уже после СВО, — две такие крупные задачи одновременно не потянуть.
Точно также только по окончанию СВО, то есть после ликвидации военного и идеологического присутствия противника на исторической имперской территории, Россия приступит к следующей по важности операции: восстановлению национального контроля над стратегическим сырьевым экспортом и вытеснению добытчиков из «недружественных» государств. А здесь наши Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, качающие нефть по трубопроводу КТК через Россию – на самом острие.
Получается, финал СВО для будущего нашей страны не менее важен, чем для Украины, и мы также с нетерпением ждём начала переговоров Трампа и Путина.
С одной стороны, на скорые договорённости рассчитывать не приходится: заявленные позиции сторон не сходятся даже по минимуму: Путин требует от НАТО отказаться не только от Украины, но и вообще вернуться в постсоветские границы. Запад готов отдать Путину все завоёванное, но оставить себе остальное.
У США свою проблема: что представляет на переговорах президент Трамп? Если глобального полицейского, то такая роль сразу рушится неспособностью утихомирить конфликтующие стороны. Если сторону конфликта, — а фактически так и есть, то само инициирование переговоров означает признание факта проигрыша и вопрос только в том, на какие условия сдачи удастся уговорить победителя.
Позиции победителя и побежденного уже закреплены за сторонами. Президент Путин давно говорит, что готов к переговорам в любой момент, вот на таких условиях. Президент Трамп говорит, что готов встречаться с президентом Путиным, — зачем? Наверное, не для того, чтобы услышать и так известные условия, предложить что-то свое и не договорится. Это – само по себе его личное поражение. Но, наверное, и не для того, чтобы согласиться с Путиным и признать поражение Запада.
Конечно, с президента Трампа и такое станется: взять, да и заявить, что это – не их война и пусть европейцы сами разбираются с Украиной и Россией. Хотя и такой ловкий ход все равно есть признание поражения. Если не США, то предыдущей администрации.
Однако, есть очень хорошо сходящиеся переговорные позиции, недаром давние уже слова президента России о нелегитимности «просроченного» президента Зеленского получили встречную поддержку из-за океана: выборам – быть!
А выборы, как все мы знаем, выигрывают не кандидаты и не избиратели, а – организаторы. Хотя роль голосующих, при правильной организации, тоже решающе важна. И тут у российской стороны заведомо выигрывающие позиции.
Начиная с того, что легитимные, — соответствующие Конституции, выборы на Украине принципиально невозможны. Поскольку провести их на всей описанной в действующей Конституции территории Украины уже нельзя, как нельзя и изменить, не имея легитимных представительных органов, саму Конституцию.
По существу, речь идет о пере-учреждении либо всей Украины, — при условии согласия или непротивления всех конфликтующих сторон, либо даже о пере-учреждении в пределах отдельных областей или регионов, с последующим учреждением уже из них неких новых государственностей или переходом таких «самоопределившихся» территорий в состав других государств.
И здесь позиции России – ключевые: только она имеет решающий голос в вопросе о прекращении боевых действий для отмены военного положения и проведения выборов президента и Рады, и только от ее согласия будет зависеть, признавать или не признавать вновь выбранные власти легитимными.
Другое дело, что сама подготовка и организация выборов, если даже на первой же встрече Путин и Трамп об этом договорятся, а сами США быстро дожмут Зеленского, все равно займет как минимум полгода.
Ну что же, такой срок и даже больше наше правительство со всеми своими полумерами вполне продержится. Однако перемены, в любом случае – грядут. И лучше их самим активно готовить, чем ждать украинских развязок.