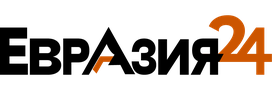Центр евразийских исследований Санкт-Петербургского государственного университета и Институт международных исследований МГИМО МИД России провели ситуационный анализ на тему «Рост международного внимания к Центральной Азии: соотношение возможностей и рисков». Есть ли в действительности рост такого внимания и чем оно чревато?
Эти и другие вопросы обсуждали профессор Казахстанско-немецкого университета Р.Р. Бурнашев (г.Алма-Ата), научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН А.А. Перминова, эксперт Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» А.Р. Сулейманов (г. Уфа), директор Центра аналитических исследований «Евразийский Мониторинг» А.Т. Тажибаев (г. Астана), заведующий Лабораторией современных исследований Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН А.Ю. Быков, начальник отдела экспертизы магистерских программ управления магистерской подготовки МГИМО МИД РФ А.С. Дундич, директор Таврического информационно-аналитического центра А.В. Бедрицкий (г. Симферополь), шеф-редактор интернет-портала Antiterror Today, О.А. Столповский (г. Воронеж), заведующий лабораторией «Центр региональных сравнительных исследований «Россия — Центральная Азия» Д.А. Борисов (г. Новосибирск), доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета М.О. Дмитриева (г. Владивосток), научный сотрудник ИСАА МГУ Д.В. Сапрынская, профессор Финансового университета при Правительстве России Д.В. Винник, эксперт-международник Н.И. Кузьмин (г. Астана). Модератор встречи — А.А. Князев, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России.
Субъектность и место Центральной Азии
Рустам Бурнашев считает, что «вне каких-то значительных внешних событий, внимание к странам Центральной Азии крайне низко. Последний всплеск внимания к ним был связан с военной операцией США и НАТО в Афганистане, потом это внимание упало, сейчас внимание поднимается, но гораздо слабее, чем во время афганской кампании». С ним согласен Дмитрий Винник: «не стоит преувеличивать, все заключается в том, что внешняя политика США с приходом Трампа вызывает нервозность во всем мире. Особенно это хорошо видно по Европе, по Восточной Европе, подобного же рода события происходят в Центральной Азии. Когда более-менее все уляжется, до каких-то следующих эпохальных событий все вернется к прежнему фону».
Иной точки зрения придерживается Алибек Тажибаев, рассматривая текущую ситуацию с точки зрения вопроса о субъектности Центральной Азии как региона: «утверждение о растущем геополитическом значении Центральной Азии подтверждается, наверное, в первую очередь, тем, что повышается субъектность региона. Понятно, что для внешних политик США, России или Китая Центральная Азия выступает объектом их внешней политики. Но синхронизация по многим направлениям внешнеполитических курсов стран Центральной Азии приводит к тому, что большее внимание уделяется еще и позиционированию объединенной Центральной Азии в мировом информационном, в частности, пространстве, что инициировано в том числе и главами центральноазиатских государств, и проходит достаточно широкой красной линией через все выступления на консолидированных площадках и в двухсторонних переговорах. Центральная Азия начинает осознавать свою роль вне зависимости от внешнеполитических изменений. Нужно делать акцент на том, что в предыдущие несколько десятков лет не было такой активной интенции на субъектность, на повышение субъектности региона. Новое же поколение центральноазиатских лидеров берет достаточно активно эту повестку в свои руки и начинает выступать, в том числе, информационными субъектами».
Эта позиция вызвала вопрос Александра Князева: «То есть, вы берете на себя ответственность сказать, что некая общая коллективная субъектность уже состоялась?..» «Я не могу заявить, что субъектность в Центральной Азии состоялась, — считает Алибек Тажибаев. — Это очень долгий процесс, мы только первые шаги делаем к повышению субъектности. У нас еще фантастическое количество внутренних как двухсторонних, так и общерегиональных, сложностей. Но информационно экспертное поле, и в целом медиа-поле, уже начало подогреваться, готовится восприятие того, что единая субъектность начнет себя проявлять. И субъектность — это не реакция на изменения во внешнеполитическом контуре, это скорее какое-то проактивное действие, направленное на повышение резистентности к внешнеполитическим вызовам». По мнению же Дарьи Сапрынской, «перспективы с точки зрения роста субъектности лежат в развитии региональных институтов. А ограничение субъектности связано в первую очередь с тем, что все равно остается риск соперничества внутри центральноазиатского региона. Кроме того, в Центральной Азии наблюдается неравномерность развития — существуют банальные внутренние разрывы, экономическое и политическое неравенство между странами. Хотя это и схожие политические модели, с похожими проблемами: существуют специфика в развитии различных институтов общества, особенности элитных групп, сильное внимание внешних акторов, высокая роль внешних инвестиций, зависимости от иностранных технологий, и, конечно, все это не способствует на данный момент тому, чтобы это объединение было каким-то устойчивым. Однако необходимость коллегиального подхода к решению общих проблем сохраняется и может стать опорой для развития реальной субъектности Центральной Азии».
Олег Столповский считает, что «повышение интереса к региону произошло с момента прихода к власти в США администрации Трампа. Именно последние месяцы продемонстрировали достаточно резкий рост интереса международных акторов: в конце прошлого года прошел саммит ЦА-Япония, недавно состоялся первый саммит ЕС — Центральная Азия, намечен саммит Центральная Азия — страны Персидского залива. Это говорит о росте интереса к центральноазиатскому региону. В свете трансформаций, которые происходят сейчас в мире, центральноазиатский регион обладает несколькими преимуществами, в первую очередь, это, конечно, его транзитный потенциал.
Второй момент, новый мировой тренд: это интерес к редкоземельным металлам. Развернувшиеся торговые и экономические войны вызывают интерес к новым источникам этого сырья. Одной из превалирующих тем на последнем саммите с ЕС как раз и были редкоземельные металлы, все остальные вопросы оттенялись этой проблемой, то же самое заявлено и в повестке будущего саммита стран Центральной Азии и стран Персидского залива.
Третий момент — это Афганистан как точка притяжения со стороны международных акторов. Следует ожидать активизации со стороны США на афганском направлении с реализацией новой стратегии в отношении Афганистана. И, как мне представляется, определенную роль американцы будут уделять центральноазиатскому региону, а преобладающая роль будет отведена Узбекистану, который занимает лидирующее положение во взаимодействии с Афганистаном».
Денис Борисов отмечает, «что, безусловно, если раньше у нас был век морских держав и во многом все расклады между крупнейшими игроками определяла морская торговля, то сегодня мы видим, что Евразия в целом заявляет о своей субъектности. Мы наблюдаем переосмысление странами суши сложившегося порядка взаимодействия. В этом плане можно говорить о том, что сам исход истории подымает на волну актуальности центрально-евразийское пространство, включая и центральноазиатское. И тут возникает вопрос, как распорядятся этим процессом сами страны Евразии…».
Алексей Дундич: «Повышению внимания способствуют продолжающийся конфликт вокруг Украины, необходимость стабилизации Афганистана, неурегулированность иранской проблемы с угрозой эскалации напряженности, тарифная война, и в целом глобальная турбулентность: издержки трансформации мирового порядка. Эти факторы подталкивают и государства Центральной Азии к координации политики в рамках формата консультативных встреч глав государств. Тем не менее, Центральная Азия как регион самостоятельным субъектом международных отношений не является, и не потому, что они зависимы от кого-то. У российского международника М.А. Хрусталева была формула: цель= интерес+/-ресурсы (корректируется в зависимости от их наличия). Активное позиционирование региона в глобальных делах — это затратный статус».
Артур Сулейманов: «Если говорить о субъектности как об активности, то, действительно, все пять центральноазиатских республик сегодня являются очень активными. И в этом плане субъектность, конечно, налицо. Но если рассматривать эту субъектность с позиции формирования миропорядка, то возникает совершенно резонный вопрос, а имеет ли это отношение вообще к формированию нового мира, если новый мир пока не предложен ни одним, ни глобальным, ни региональным игроком. Эта неопределенность становится дополнительным мотиватором для того, чтобы страны могли говорить о прагматизме, многовекторности, выступать с различными инициативами. Неопределенность — это то, к чему мы, собственно говоря, сегодня уже все привыкли. И она сегодня пока больше на руку странам Центральной Азии, при том, что с инициативой предложить новую модель миропорядка выступить пока не может никто».
Александр Бедрицкий: «интерес к Центральной Азии есть, но субъектность самой Центральной Азии крайне низка. Сами государства, будем говорить — в силу разных причин, достаточно слабы и не субъектны в этой игре. Есть влияние Китая, влияние России, влияние США, ЕС, Центральная Азия сама по себе является в этих играх только объектом и в силу этого политика стала доминировать над экономикой». Александр Князев: «В любом случае, нужно исходить из того, что повышение внимания к региону не долгосрочно, оно ситуативно, оно во многом моделируется самими странами региона. И в таком контексте нужно, вероятно, рассматривать, например, активизацию всех дискуссий, обсуждений, обещаний в отношении т.н. “Среднего коридора” в обход России и Ирана, еще ряд вопросов, те же редкоземельные элементы…».
Интерес к критическим минералам и судьба «Среднего коридора»
Дмитрий Винник: «Тема редкоземельных металлов сильно раздута, но этот рынок может вырасти в десятки, в сотни, а в случае глобальной войны и в тысячи раз. США утеряли приоритет в производстве редкоземельных металлов, который у них был, когда поняли, что дешевле покупать у китайцев. Около 90% редкоземельных материалов на мировом рынке — китайского происхождения. Поэтому, если у американского военно-политического руководства есть серьезные планы на эскалацию конфликта с Китаем, на войну, им нужно искать какие-то резервы. Отсюда эта тема, в общем-то, и возникла. Она не абсолютно фейковая, просто не настолько горячая на данный момент. Это исключительно критически важные элементы, без которых, допустим, американская авиапромышленность просто не сможет существовать. Количество этих элементов достигает десятков килограммов при производстве одного только истребителя F-35. Я уже не говорю про системы спутниковой связи или какие-нибудь неодимовые магниты для HIMARS.
Пока эта тема не актуальна, а исключительно спекулятивна. Те, кто владеют редкоземельными ресурсами, устраивают предварительную торговлю своими возможностями. Ну, и если США захотят получить какие-то критически важные редкоземы где-нибудь в Казахстане, в Киргизии, в Таджикистане, то они будут вынуждены договариваться, разумеется, с нами, иначе никак, просто это исключительно сложная вещь и технологически, и инфраструктурно, и с точки зрения инвестиций».
Тема глобальной транспортной взаимосвязанности оказалась интересной участникам дискуссии. Денис Борисов: «Как сохранять торгово-экономические связи в случае той же морской блокады Китая со стороны США, которая технически может быть реализуема. Понятно, что сухопутные маршруты остаются альтернативой. Да, они по масштабам не могут полностью вытеснить морскую торговлю, но, в то же время, сухопутные маршруты, как минимум, могут обеспечить сохранение обмена по критически важным ресурсам и технологиям. И в этом плане, естественно, Евразия и Центральная Азия, как пространство в центре, обретает свою актуальность, и свой интерес. И если мы с политической точки зрения посмотрим на те же саммиты по формуле С5+, практически все сегодня более-менее активные международные игроки реализуют этот формат. Что с политической точки зрения показывает заинтересованность в развитии этих отношений».
Николай Кузьмин был менее оптимистичен: «Значение Центральной Азии, оно в принципе измеряемо: например, ее логистическое значение. Китай торгует с Европой преимущественно по морю и частично по железной дороге, а также по воздуху и автомобилями. Какова доля моря? Если брать объемы, это 90 процентов. Если брать стоимость, немного меньше. Какова в сухопутной торговле доля транскаспийского маршрута или «Среднего коридора»? 10 процентов — это максимум, на самом деле меньше. То есть, это 10 процентов от 10 процентов всей торговли. Вот это и есть значение Центральной Азии. И я бы рискнул спроецировать это значение и на торговлю. Никакого интереса европейских фирм к каким-либо другим отраслям, кроме нефтянки, в реальности нет. Соглашение о разработке редких и редкоземельных металлов Германия с нами подписала еще в 2011 или 2012 году, если не ошибаюсь. Тогда и немцы, и мы писали много про то, как сейчас будут ресурсы идти в обмен на технологии, и как начнут у нас эти немецкие технологии внедряться… Не было никаких технологий по добыче редкоземельных металлов, реальные технологии добычи есть только у Китая, у Австралии и у США. Я не слышал, чтобы европейцы где-то что-то добывали. Китайцы достаточно уверенно контролируют этот рынок.
На саммите с ЕС много было сказано красивых слов и все это правильно. Встречаются высокие люди, был хороший праздник, который прошел ко всеобщему удовольствию. Но не анализировались не только проблемные точки в отношениях между Европой и Центральной Азией, но даже и реальные направления сотрудничества. Фон дер Ляйен не постеснялась объявить о десяти миллиардах евро, выделенных на развитие Среднего коридора больше года назад. Что значит выделить 10 миллиардов: тогда же на инвестиционном форуме объяснялось, что на полтора миллиарда ЕБРР, и на такую же сумму, по-моему, Европейский инвестиционный банк, заключили меморандум о намерении инвестировать в развитие транспортной логистики в пяти государствах Центральной Азии. При этом они опирались на доклад о том, что надо цифровизацию подправить, надо гармонизировать законодательство, еще что-то. То есть, мы то ждем, что нам глубоководный порт построят, и не один, что нам причалы, терминалы контейнерные кто-то построит. Строят китайцы, европейцы будут гармонизировать законодательство. Они ТРАСЕКА свою уже 30 лет строят. Где она, эта ТРАСЕКА?».
Существенную долю скепсиса в вопрос о перспективах обсуждаемых транспортных маршрутов внес и Александр Князев: «У меня есть большие сомнения, связанные с оценками «Среднего коридора», здесь нужно согласиться с Николаем Кузьминым. Но кроме того, все оценки значимости этого коридора, вероятности его роста, вообще сохранение этого коридора, они исходят из одного, видимо кажущегося незыблемым, тезиса: что объемы торговли между ЕС и Китаем будут сохраняться или даже расти. Но мы же видели, как европейский политический класс способен вопреки собственным экономическим интересам разорвать экономические связи с Россией в той же сфере энергетики. А где гарантия, что не возникнет ситуация, когда точно так же политика возобладает над экономическими интересами и в отношении Китая — в той общей турбулентности, которую мы сегодня наблюдаем? И тогда значимость любых широтных коридоров может резко измениться в сторону ухудшения, в сторону их сокращения. В то же время, есть Транссиб, есть активно сейчас разрабатываемый Северный морской путь. По нему российский сжиженный газ уже поступает в Индию, к нему проявляет огромный интерес Китай. И по ряду параметров Средний коридор ему вовсе не конкурент, для оценки перспектив любого маршрута нужно смотреть просто географически значительно шире. А Средний коридор — это про торговлю стран Центральной Азии с Азербайджаном».
Николай Кузьмин дополнил: «Морскую торговлю можно перекрыть для Китая, у США с их союзниками такие возможности есть, а путь через Центральную Азию они не перекроют. В 2011 году Китай начал создавать железнодорожный маршрут Китай-Европа, но как в первые годы он был совершенно неприбыльным, так и нынешний ТМТМ через Каспий, он тоже неприбыльный, для КНР это чисто стратегия, на которую выделяются деньги для того, чтобы обеспечить безопасность государства. Опорные порты, которые создаются, могут легко стать военными базами или, по крайней мере, могут быть переоборудованы в пункты материально-технического обслуживания. В перспективе они могут это сделать и с Актау, и с Поти, это, конечно, грузовые порты, но при необходимости — китайские ПМТО. А товарный поток, как я уже говорил, это 10% от 10% общего».
Что нам делать с Европой?
Рустам Бурнашев: «Вообще региональная субъектность весьма сомнительна. Известен только один пример, более-менее демонстрирующий такую субъектность — это Европейский Союз, где есть центральные органы. Когда мы говорим о Центральной Азии, то тут сложно даже говорить о региональности. Я где-то лет десять назад ввел термин «квазирегион безопасности», который описывает ситуацию, когда есть общее название, но нет единой структуры безопасности. Думаю, в более широком смысле, о Центральной Азии можно говорить как о «квази-регионе». Обычно наша регионализация задается внешними партнерами: или они действительно считают, что здесь есть какое-то единство позиций, или они исходят из технического удобства: они хотят встретиться с представителями всех стран Центральной Азии и удобнее их всех собрать в одном месте, чем ездить по пяти странам, которые для внешних партнеров фундаментального интереса не представляют». Впрочем, Рустам Бурнашев относительно все-таки оптимистичен: «Если мы говорим о современном формате международных отношений, то, несмотря на все турбулентности, в нем все государства обладают определенной степенью субъектности, которая фиксируется в идеях суверенитета и независимости, и страны Центральной Азии (но, конечно, не регион) в этом плане — не исключение».
Николай Кузьмин: «Ни одна из стран Центральной Азии, кроме Казахстана, не торгует активно со странами ЕС. Для Узбекистана, Киргизии, Таджикистана в Европе главный партнер это Швейцария. Они золото продают, но это не Евросоюз. Страны Евросоюза не входят, наверное, даже в первую пятерку торговых партнеров, поэтому говорить то, естественно, можно все, и все приличествующие, так сказать, большому событию слова были сказаны в Самарканде (имеется ввиду на саммите ЦА+ЕС), но в реальности серьезные торговые связи с Европой только у Казахстана, и они очень специфичны. Казахстан много продает, потому что это нефть, и она дорогая, поэтому экспорт Казахстана в Европу большой, но мы почти ничего не покупаем в Европе».
Артур Сулейманов: «Европейский союз — да, это союз, который имеет историю, который был сформирован под конкретные политические, а скорее экономические, задачи. Но после Брекзита, когда британцы вышли из ЕС, никакой единой общей политики, кроме антироссийской сегодня, Евросоюз представить не может. Более того, мы видим, как Берлин и Париж между собой конкурируют за первенство в ЕС. Все это приводит к расшатыванию организации. Поэтому какая может быть субъектность у Евросоюза? Наверное, никакой. Что касается британцев и США. Главное — мы сегодня наблюдаем, как конфликт между Лондоном и Вашингтоном вышел в реальность, у британцев и у американцев разное понимание нового миропорядка».
«Средние державы» в новом миропорядке
Александр Князев: «Не хочу сейчас вдаваться подробно в само содержание дефиниции «средняя держава», есть много разных прочтений, важнее понять, что этот статус может дать в сегодняшнем и в новом мире, в чем содержание и смысл такого статуса? Влиять на создание миропорядка? Я не уверен, что какая-то из стран Центральной Азии, или даже все вместе, что невозможно, на мой взгляд, смогут хоть как-то влиять на формирование миропорядка. Независимо от их субъектности или объектности, они будут ведомыми и будут находить свое место в той модели, которая будет предложена мировыми акторами».
Денис Борисов: «Если говорить о мировом порядке, то это не какая-то зацементированная структура, скорее речь идет о динамичном взаимодействии по созданию конкурентных и кооперативных связей между государствами. Главное в этих связах — это параметры интенсивности и разряженности. Страны, претендующие на то, чтобы быть участниками формирования этого порядка, должны иметь важный навык — формировать конкурентные взаимозависимые отношения с другими участниками. Но кто эти другие? Во-первых, “несредние (малые) державы” — это мелкие поставщики ресурсов и рынки сбыта. Их вовлечь в свою орбиту достаточно просто: нужно предложить соответствующий набор инвестиций, логистику для обмена товарами и так далее. Они мало субъектны в этих процессах. Во-вторых, “средние державы” — это тот пул государств, которые по отдельным аспектам международной жизни имеют вес и значение. Государства, которые могут предлагать наиболее привлекательные модели вовлечения в свою орбиту наибольшего числа средних и малых держав, — это и есть архитекторы правил «международной игры».
На протяжении последних 10 лет мы видим, как меняется динамика межгосударственных кооперационных связей между странами Центральной Азии с крупными и средними внерегиональными игроками. Обобщенно можно выделить пул средних держав, чьи позиции заслуживают внимания. Первая, естественно, Турция, которая активно работает и в экономической, в политической, в идеологической, даже в военной сферах. Понятно, что она не может претендовать на роль главного игрока в регионе, но тем не менее ее параметры укрепляются. Можно отметить Южную Корею, она очень активно ворвалась в регион прежде всего в экономической сфере, ее торговые связи стали сопоставимы с ведущими европейскими государствами.
Отдельно можно отметить Иран. В силу институциональных издержек, связанных с международными санкциями, позиции Тегерана в регионе сдерживались. Однако, расшатывание прошлого порядка создало необходимые политические люфты, которые снижают институциональные барьеры для развития отношений Ирана со странами Центральной Азии. На фоне антироссийских санкций взаимодействие с Ираном уже выглядит не так и токсично, как было 10 лет назад: торгово-экономические связи развиваются выше среднего, заметна интенсификация политических контактов. Дополнительно, Иран входит в свободную зону ЕАЭС, что опять-таки снижает нивелирует транзакционные издержки. Тегеран в среднесрочной перспективе будет наращивать свое взаимодействие со странами региона. И последнее, Индия. Эта страна обладает большим потенциалом включиться в число так называемых “средних держав”, но здесь требуются творческие решения по усилению связанности Дели со странами Центральной Азии».
Александра Перминова: «Вопрос о наименовании той или иной страны «средней державой» и не только в Центральной Азии — политически важен, важен для имиджа государства, но какова же значимость того, что страну называют “средней державой”, страной третьего мира или великой державой? Понятная ценность здесь — политическое влияние, место на международной арене. А с практической точки зрения, что государство с этого получает? Особое доверие со стороны других государств, которое подразумевает и финансовые вливания, совместные проекты, в том числе те, которые считаются довольно рискованными. И если мы доверяем государству, то мы, скорее всего, будем вкладываться во все это. Если нет, тогда это “страна третьего мира” или failed state, куда, конечно, никто просто так вкладываться не захочет. Таким образом, приобретая влияние, страна рассчитывает на внешние преференции, но важно обозначить, что с таким влиянием растут не только возможности, но и ответственность — в том числе за внешнеполитические решения».
Рустам Бурнашев: «Вообще, понятие “средняя держава” начало использоваться еще в 1950-х годах. Сейчас в Казахстане возродили эту терминологию. Мне кажется, что пока смысл этого — внешнее и, в большей степени, внутреннее брендирование, которое поддерживается европейскими странами. Практического наполнения этого концепта современная система международных отношений и международные институты не предполагают. Именно поэтому Казахстан и говорит одновременно и о поддержке ООН, и о необходимости ее реформирования».
Алексей Дундич: «Значение малых и средних стран растет сегодня за счет развития системы многосторонних институтов. Нормативный уровень мировой системы находится в кризисе и на этом фоне увеличивается роль военно-силового регулирования в международных отношениях. А у малых и средних стран больше институционального ресурса, чем силового. На институциональном уровне традиционные международные организации дополняются разнообразием неформальных организаций — параорганизаций и клубов. Именно в такую ассоциативную паутину втягиваются и страны Центральной Азии. Структурирование регионального пространства (многочисленные форматы С5+1, ОТГ, «Один пояс — один путь» и т.д.) — это новый способ борьбы за Хартленд, цель которой для внешних держав — пусть не контроль, но купирование возможных угроз и предупреждение кризисов путем настойчивого проецирования своих интересов, в частности и на страны Центральной Азии».
Дмитрий Винник: «Страны Центральной Азии окружены государствами, которые оказались… не друзьями Америки. Это Россия, и Китай, Иран и Афганистан. И прозападные режимы, правительства в Центральной Азии, существуют постольку, поскольку они уравновешивают их интересы. Если же речь пойдет о серьезном межконтинентальном конфликте, неважно в каком виде, допустим, между США и Китаем, это станет угрозой многим в Центральной Азии, кстати, учитывая исключительную слабость Европы, отсутствие прямого сообщения с ней, говорить о том, что европейские государства могут что-то здесь сделать, это абсолютно бессмысленно, все это на уровне слов».
Турбулентность и многовекторность: соотношение возможностей и рисков
Александр Бедрицкий: «Политические факторы, которые будут являться основными рисками для дальнейшего существования региона как целостности, которая существует больше на географическом уровне, и на уровне политических образований, которые там сейчас существуют, можно перечислить буквально кратко, тезисно. Для Узбекистана, который имеет прекрасный потенциал развития, это демографическая проблема, необходимо куда-то устраивать избыточное население, и, скорее всего, это будет малограмотное население. Таджикистан мало того, что испытывает внутренние проблемы, связанные с радикалами, с исламистскими группировками, так он еще и находится в непростом «тюркском» окружении. Киргизия — страна перманентных революций и нельзя сказать, что нынешний режим гораздо устойчивее, чем все предыдущие, там полыхнуть может в любой момент. В Казахстане — квазистабильность, события 2022-го года показали, что тоже все может очень быстро измениться. И многовекторность может сыграть очень дурную шутку в отношениях любой страны региона и с Россией, и с Китаем, вот они основные риски. Бóльшая часть из них лежит не в экономической плоскости, а в политической, в культурной».
Андрей Быков: «Я хочу кратко остановиться на классификации рисков. “Жёлтая опасность” — территориальные претензии, экономическое поглощение и, возможно, политическое подчинение Китаем. Вторая опасность, которая продолжает артикулироваться, это внешняя агрессия со стороны террористических организаций из Афганистана. Отсюда же угроза, связанная с радикализацией общества и так далее. Третья угроза, в первую очередь, она артикулировалась и продолжает артикулироваться в Казахстане. Это угроза со стороны России, угроза поглощения полностью или частично Казахстана. И, наконец, четвертая угроза, которая очень мало артикулируется, это угроза превращения и сохранения региона в качестве сырьевого придатка для глобальной экономики.
На мой взгляд, первые три к настоящему времени в значительной степени являются мнимыми. Это псевдоугрозы, которые используются в политических интересах тех или иных групп, тех или иных акторов в этих странах, для решения внутриполитических задач. Понятно, что эти угрозы есть, но их уровень такой минимальный, что все осознают, что это не угрозы первого порядка.
Иначе с четвертой угрозой, с угрозой того, что регион и каждая из стран может превратиться в сырьевой придаток. Хотя, как минимум четыре страны, за исключением Узбекистана, наверное, они смирились с этим и считают это абсолютно нормальным, приемлемым и достаточным для сегодняшнего периода, для того чтобы поддерживать относительную социальную и политическую стабильность.
Что касается внутренних угроз, то мне кажется, что эти угрозы гораздо более важны и показательны. Для всех стран характерен такой процесс как маргинализация, перетекание сельского населения в города и в пригороды, соответственно, происходят изменение социальной структуры, рост социальной неудовлетворенности. И этот процесс связан и с процессами исламизации, и с процессами радикализации, и этот процесс характерен для всех, на мой взгляд, пяти центральноазиатских государств. В ряде стран транзит власти произошел, но не завершен, по сути, не начат этот транзит в Таджикистане, хотя есть вопросы и по другим.
Мне кажется, есть еще один риск, который в значительной степени купировался, но недооценивать его нельзя. Это «фактор Каракалпакии», возможность проявления сепаратистских тенденций в регионе. Фактор Каракалпакии — это условно, он может проявляться не только по отношению к Каракалпакии. Есть другие районы, в других странах, где тоже могут выдвигаться требования об автономизме и даже о признании их суверенитета. Во всей этой иерархии, конечно, внутренние угрозы довлеют над внешними, и в настоящих условиях купировать необходимо именно внутренние угрозы».
Рустам Бурнашев: «Многовекторность, хотя мне больше нравится узбекский термин «равноудаленность», — это вынужденная политика. Для государств нашего типа такая политика неизбежна и, в этом плане, я не думаю, что это какая-то целенаправленная разработка, это принятие того, что есть. Ситуация, определяющая нашу многовекторность, создает как риски, так и возможности, но, к сожалению, с моей точки зрения, наши страны обладают меньшим навыком использовать возможности, чем реагировать на риски. Поэтому и на усиление присутствия внешних стран в Центральной Азии мы начинаем реагировать именно как на риски, а не как на возможности».
Касаясь вопроса о внерегиональных партнерах стран региона, Рустам Бурнашев соглашается с тем, что «спектр возможностей здесь увеличивается. Другой вопрос, готовы ли наши внешние партнеры пользоваться этими возможностями? Все-таки мне кажется, что эти возможности они используют достаточно ограниченно. Если взять Турцию, выходя за ситуативную риторику, мы увидим, что, по сути, Эрдоган просто решает через Центральную Азию свои внутренние проблемы, те проблемы, которые имеются в Турции. В значительной степени мы имеем ту же самую картину и с другими участниками второго плана, например — со странами Арабского Востока, которые действительно усилили — на нулевом фоне — свою активность. Но их активность не выходит за рамки финансовых интересов, говорить, что это интересы какие-то более серьезные, мне кажется, сложно».
Алексей Дундич: «В ресурсной кооперации с Россией в понятных, долгосрочных институциональных рамках, мы все вместе можем претендовать на роль коллективного центра нового полицентричного мира. Многочисленные форматы взаимодействия повышают роль отдельных государств. Институты способствуют развитию условно-партнерского типа поведения (термин А.Д. Богатурова): участвуя в разных форматах страны Центральной Азии не отдаляются далеко, но и не приближаются близко к разным крупным внешним игрокам. Если раньше такой тип внешнеполитического поведения был характерен для средних стран, имеющих собственные ресурсы, а малые страны вынуждены были выбирать стратегического партнера, то современная ситуация нахождения в мировой повестке позволяет и малым странам извлекать выгоду из многовекторной политики».
«О дивный новый мир!»
Александра Перминова, обращаясь к вопросу о сломе миропорядка, полагает, что «мир претерпевает глобальную турбулентность не с приходом Трампа, а последние три года как минимум. И страны Центральной Азии довольно существенно свои экономические возможности в чем-то нарастили за эти три года. Мир меняется, меняются отношения США и Китая, отношения США и Европы — но важно понимать, что пока «западные» институции — Всемирный банк, МВФ и доллар — не рухнули. Да, мы живем в условиях, которые называют «сломом миропорядка», и в долгосрочной перспективе миропорядок точно изменится. Но даже сейчас США, несмотря на тарифные войны с Китаем, остаются основным экономическим партнером для этой страны. Мы живем в условиях, когда Китай и Евросоюз являются друг для друга важными приоритетами, и Китай будет наращивать свое сотрудничество с Европой. Важно мыслить на перспективу, но еще важно ясно видеть реалии и с этим работать».
Александр Бедрицкий: «Сегодня прозвучало несколько вещей, в достаточной степени мифологизированных. Ну, прежде всего, это абсолютизация глобализации. События ковида или потом начавшаяся специальная военная операция на Украине, они показывают, что глобализация прекрасным образом отключается во всех своих аспектах. И в торгово-экономическом, и в логистическом, когда прекращаются полеты европейских или американских компаний над Россией. И в информационном, когда ограничиваются возможности получения информации, хотя раньше считалось, что это некая глобальная среда.
Второе — это мифологизация тезисов о многополярности и многовекторности. Многополярный мир не будет миром справедливым, где каждый получит то, чего хочет. Это будет гораздо более опасный и страшный мир, чем, скажем, биполярный или монополярный. Риски здесь многократно возрастают, в том числе и для государств второго плана.
И третий мифологизированный тезис, это принцип многовекторности. Понятно, что это вынужденная политика, и преследовать она может только две цели. Либо это вопрос выживания, чем сейчас и занимаются центральноазиатские государства, многовекторность для них — это прежде всего вопрос сохранения определенного статуса. Либо многовекторность как возможность увеличения своего веса на международной арене, переход в разряд другого типа государств, допустим, в разряд региональных лидеров, это то, что реализует, например, Турция». Про многовекторность дополнил Андрей Быков: «Мне кажется, что многовекторность или равноудаленность — это в значительной степени все-таки больше лозунг для внутреннего пользования в настоящее время. Для того, чтобы продемонстрировать высокую степень суверенитета, высокую степень субъектности».
Артур Сулейманов: «Многие эксперты рассуждают о том, что формируются многополярный мир, полицентричность. Это так, но вместе с тем сегодняшняя действительность показывает, что чем больше мы говорим про многополярность и полицентричность, тем мы больше понимаем, что любой миропорядок должен иметь определенную иерархию, а в современной иерархии у нас из глобальных институтов есть только ООН. Предпринимаются отдельные попытки критиковать ООН, они исходят в большей степени от Вашингтона, который вообще является сегодня разрушителем многих глобальных институтов, глобальных структур, этому тоже есть вполне объяснимые причины. Поэтому тот новый миропорядок, который формируется уже на наших глазах, он будет полицентричным, но это не значит, что все будут обладать какой-то субъектностью, что все будут влиять на глобальные процессы, да и на региональные процессы в каком-то глобальном масштабе».