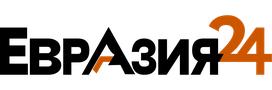Тотальной цифровизации Казахстана по поручению президента дан общенациональный старт. Все министерства и ведомства отчитываются об уровне своей технологичности и перспективах ее наращивания. Но, кроме создания целого Министерства ИИ и цифрового развития, стране нужны деньги и кадры. На днях в мажилисе вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин заявил о дефиците кадров для масштабного внедрения искусственного интеллекта. И сделал еще ряд довольно любопытных заявлений, которые, мягко говоря, вызывают беспокойство.
Начнем с того, что было и так понятно, — технологический прорыв кардинально меняет структуру рынка труда. Но производственными линиями все равно управляет человек, и трансформация бизнеса происходит естественным путем в зависимости от количества денег.
Что будет теперь? А теперь, скорее всего, профильные министерства будут судорожно искать варианты «договориться» с предпринимательством о скорейшем внедрении еще и управления бизнес-процессами с помощью виртуальных мозгов. И эта кампания обречена на успех, потому что у госмашины есть незаменимый административный ресурс в таких переговорах – дешевые кредиты и субсидии.
Как это сработает в жизни, конечно, загадывать мы не будем, поскольку на примере сельского хозяйства, субсидируемого десятилетия, хорошо видно, что дешевых денег и мотивации мало, нужны кадры. Аграрный сектор в структуре экономического роста занимает одно из последних мест, а помощи от государства получает больше остальных.
Тем не менее, у Министерства труда и соцзащиты населения есть полное право говорить о том, что автоматизация и цифровизация производственных процессов устроит на рынке труда серьезный передел.
«Появление генеративного искусственного интеллекта вновь подняло вопрос о возможном вытеснении человеческого труда. Министерством проведено исследование по оценке влияния автоматизации и ИИ на занятость в Казахстане. Анализ 423 групп профессий показал: около 25% рабочих мест, или 2,2 миллиона, имеют умеренный и высокий риск автоматизации. Из них чуть более 1 миллиона могут быть замещены за счет генеративного искусственного интеллекта. В отраслевом разрезе наиболее уязвимы финансы, информационные технологии, наука и здравоохранение. Наибольшая угроза характерна для крупных городов – Алматы, Астаны и Шымкента, где автоматизация может коснуться до трети рабочих мест», – заявил в мажилисе Олжас Анафин.
Но, справедливости ради, он же и заметил, что массового вытеснения работников ожидать не стоит, так как людям в Казахстане платят мало, а автоматизация стоит дорого. То есть экономика дешевой рабочей силы пока будет в тренде.
Тот самый случай, когда непонятно, то ли радоваться, то ли плакать. Что сейчас для казахстанцев первичнее – что их труд явно недооценен, или что для них все еще есть хоть какая-то работа?
Первыми под пресс цифровизации, по данным Минтруда, попадают бухгалтеры базового уровня, операторы машин, работники конвейерного производства, упаковщики, кассиры.
«Какие-то работники, возможно, будут также заменены ИИ. В том числе в министерствах», – сказал вице-министр.
И это любопытно, учитывая, что сокращение госаппарата – одна из задач замещения естественного интеллекта искусственным. Правда, еще никто из чиновников не назвал ни процент чиновников, которых безболезненно для рабочих процессов мог бы заменить виртуальный мозг, ни список министерств, которые под нож пустят первыми.
«По состоянию на 1 января 2025 года штатная численность госслужащих составила 91 555 единиц, фактическая – 84 482 человека. Рациональное использование кадров остается приоритетной задачей. После оптимизации численности в 2021 году наблюдается ежегодный рост численности госаппарата на 1-2%», — сказано в ежегодном национальном докладе Агентства по делам госслужбы за 2025 год.
В аналогичном документе годичной давности указано, что фактически на госслужбе на 1 января 2024 года работали 83 009 человек при штатной численности в 90 583 единицы. Рост очевиден числа чиновников очевиден.
Политолог Данияр Ашимбаев считает, что при увеличении количества регионов и министерств рост сотрудников на госслужбе оправдан.
«Когда один госорган утрамбован 5-6 важными стратегическими направлениями, в итоге эффективность хромает по всем. Поэтому, допустим, создание МЧС, Минводных ресурсов, Минтранспорта и других отдельных ведомств – это нормально. Уж лучше профессиональные госорганы, пусть даже они будут несколько больше, чем была их численность в статусе комитетов. Главное, чтобы они хорошо работали», — прокомментировал эксперт Евразии24.
У нас теперь есть логичный вопрос – кого из чиновников собираются поменять на искусственный интеллект, если опросы госслужащих на местах показывают, что отраслевым подразделениям на местах не хватает экономистов, управленцев, ITшников, специалистов по сельскому хозяйству, природным ресурсам, медицине, праву, техническим наукам, ветеринарии, строительству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. В бизнесе, кстати, дефицит кадров по тем же направлениям. Это, кстати, те специалисты, которых на искусственный разум не поменять. И если начать избавляться, грубо говоря, от бухгалтеров, когда на предприятии не хватает рабочих рук в целом, то со стороны такая кадровая оптимизация будет выглядеть помешательством. Вот если бы цифровизация помогла закрыть кадровый дефицит, то был бы совсем другой разговор. Но и здесь есть нюансы.
«Во-первых, надо понимать, что есть вопрос стоимости повсеместного внедрения ИИ. Уже сейчас Минтруда говорит, что ИИ заберет там 1-2 млн рабочих мест, но у меня есть сомнения. Кроме наличия самих платформ, покупки лицензий есть техническое обслуживание всего этого цифрового хозяйства. А это – десятки миллиардов тенге. Кто-то считал, во сколько бюджету обойдется масштабная цифровизация? Я, например, заметил, что в последние годы в госаппарате отсутствует представление об элементарном экономическом расчете. Есть ведь проекты, в которые инвестируются, условно, 40 млрд тенге при отдаче в 20 млрд. Ни у кого не возникает вопрос, зачем тратить такие деньги, чтобы на выходе получить 20 млрд тенге чистого убытка? Вот то же самое – об ИИ. Можно сколько угодно считать по головам работников, а техобслуживание никто не отменял, — считает Данияр Ашимбаев.
Кстати, он отметил, что никакой софт, никакой ИИ не заменит сантехников, инженеров, электриков, потому что ИИ не умеет заниматься полезным физическим трудом. А вот отвлечь внимание от кадрового голода в области рабочих профессий искусственному разуму удается очень даже легко.
«В каком случае ИИ будет в системе управления полезным? Если он избавит от работников, не умеющих работать с данными. Статистики в Казахстане немного, она не сложная в понимании и анализе, с ней прекрасно справляются люди. Не будем забывать, что ИИ – всего лишь техническая модель программы обработки данных без критического мышления и навыков осмысления. Что в этот массив загрузили условные дураки, с тем объемом информации ИИ и будет работать. Поэтому избавиться от отраслевых специалистов и не работать над их профессиональным ростом будет большой ошибкой», — говорит политолог.
Он привел пример, когда применение ИИ может быть не только не полезным, но даже опасным.
«Старшие школьники Казахстана разучились формулировать свои мысли и устно, и письменно. То есть соображать в принципе. Потому что повсеместно пользуются текстовыми виртуальными помощниками. Но теперь ИИ добрался и до маленьких детей. Отданные на воспитание смартфонам, они страдают приобретенным аутизмом и к взрослому возрасту теряют социальные навыки. Распространение голосовых сообщений и видеоконтента привело к тому, что у детей теряются навыки чтения и логического мышления. Тестирования PISA это наглядно демонстрируют», — комментирует Ашимбаев.
Наконец, глобальный вопрос утечки данных тоже не снят с повестки дня. Кибермошенничество, наносящее серьезный экономический урон, появилось как раз в эпоху цифровизации. Только в 2025 году государство признало несколько крупных утечек персональных данных. Это точно сделали не сами владельцы этих данных. Казахстан не является крупным разработчиком технологий ИИ, он может быть только крупным пользователем таких технологий. Что примерно означает, какой массив информации разной секретности может запросто «уплыть в чужие руки». И с кого потом спрашивать, где искать ответственных?
В январе 2025 года в Палату представителей США представили новый законопроект, который разрешит искусственному интеллекту выписывать рецептурные препараты и ставить диагнозы. Но начались споры о том, что в здравоохранении, от которого напрямую зависит жизнь человека, есть риск злоупотреблений. ИИ уязвим к манипуляциям, и при нужной постановке задачи разработчиком может подвергнуть пациентов угрозам здоровью и жизни. В интернете полно как хеппиэндов об уникальном ChatGPT, который ставил верные диагнозы, так и случаев доведения людей до психиатрических стационаров.
Есть вещи, которые нельзя отдавать на откуп компьютеру. Но даже при понимании всех рисков можно сильно заиграться в цифровизацию и пропустить тот момент, когда страной в прямом смысле этого слова начнет управлять ИИ.