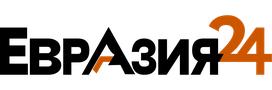Центр евразийских исследований Санкт-Петербургского государственного университета и Институт международных исследований МГИМО МИД России провели ситуационный анализ на тему «Стратегические и геополитические угрозы интересам России, Китая и Ирана в Центральной Азии в контексте ирано-израильского конфликта и событий на Южном Кавказе».
В дискуссии принимали участие А.А. Колесников — директор Центра евразийских исследований, профессор СПбГУ, А.В. Бедрицкий — директор Таврического информационно-аналитического центра (Симферополь), К.И. Бекмухамедов — руководитель регионального бюро Информационного агентства «Фарс» (Душанбе), Н.И. Кузьмин — эксперт-международник (Астана), А.В. Чекрыжов и А.Р. Сулейманов — эксперты Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» (Уфа), О.А. Столповский — шеф-редактор интернет-портала Antiterror Today (Воронеж), Д.А. Борисов — заведующий лабораторией «Центр региональных сравнительных исследований «Россия – Центральная Азия» НГУЭУ, (Новосибирск), Р.Р. Назаров — старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз (Ташкент). Модератор встречи — А.А. Князев, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России.
«Два государства, один народ»: как работают турецкие прокси
Александр Князев: «Мне кажется, что в Азербайджане сейчас совершенно отчетливо проявляются признаки проекта «анти-Россия» — того, что был реализован на Украине и привел к нынешнему ее состоянию, того, что во многом реализуется в Молдавии, заметно в Армении. Азербайджан на сегодняшний день наиболее близок к тому этапу, который прошла Украина в подобном проекте, и я думаю, что определенные точки невозврата возвращения к прежнему состоянию отношений с Россией пройдены. Да, сотрудничество какое-то будет, оно и с Украиной продолжалось, и нефтепроводы, газопроводы шли через Украину. Но абсолютно нельзя исключать того, что Азербайджан может надолго утвердиться в статусе недружественного для России государства.
Николай Кузьмин: «Выросла ли роль Азербайджана в регионе? Ну, не слишком. Она уже была достаточно большой в политическом смысле, и в квази-политическом, то есть в пропагандистском, рекламном. И совершенно не выросла в плане экономическом, с Казахстаном торговля как была мизерной, так и осталась, торговать особо нечем. Каковы перспективы? Есть ли какие-то угрозы в связи с конфликтом Азербайджана и России? Есть один риск для Казахстана. Мы бы хотели при поддержке Евросоюза чего-нибудь через Каспий запустить. Хотели бы, чтобы транскаспийский маршрут расширял связи Казахстана и Европы, Казахстана и Запада в целом. А вот Иран с Россией этого не хотят. И если Иран с Россией сблизится, то они, используя договоренности в «каспийской пятерке», будут этому мешать».
Денис Борисов: «Логика Азербайджана очевидна: там увидели, что антироссийская риторика на международной арене позволяет многое оправдать. Для Баку последний конфликт с Арменией оказался крайне токсичным с точки зрения имиджа, и, чтобы “обелить” себя в глазах прежде всего Запада, президент выбрал проверенный метод — занять антироссийскую позицию. В целом это сработало. Эскалация в отношениях с Россией отчасти развязывает руки Азербайджану. Но в случае нового обострения с Арменией речь уже будет идти не о “освобождении исторических земель”, а о наступательной экспансионистской политике, связанной с решением вопроса транспортной связанности между Нагорным Карабахом и остальной территорией страны. При этом дальнейшая эскалация объективно будет стимулировать сближение России, Китая и Ирана».
Александр Бедрицкий: «Влияние Ирана, как мне видится, в Центральной Азии относительно незначительно, и тут Иран серьёзно заинтересован в России. В случае, если наши союзнические или, по крайней мере, близкие партнёрские отношения будут сохраняться, Иран может воспользоваться ими. Россия также может оказаться заинтересована в появлении такого союзника в Центральной Азии, учитывая, что центральноазиатские государства, надо признать это, заинтересованы в сохранении вовлечённости России в войну вокруг Украины, естественно, при условии усиления вторичных санкций со стороны Запада.
Что делать в этой ситуации? Как мне кажется, прежде всего стоит пересмотреть инструментарий нашей внешней политики в Центральной Азии, да и в СНГ в целом. Россия уже неоднократно демонстрировала, что может использовать экономические рычаги во внешнеполитических целях. Да, это делается завуалировано, хотя, наверное, стоило бы чётче артикулировать свои интересы. А вот эффективность этих экономических рычагов для изменения курса может ставиться под вопрос. Допустим, тесные экономические связи России с Украиной, существовавшие до 2013-14 гг. не оказали никакого влияния на радикализацию украинского антироссийского курса. Аналогично, Россия в полной мере использует экономическое давление в отношениях с Молдовой, и её экономика от этого страдает, но прозападный курс сохраняется, нам от этого совершенно не легче. Точно также не легче будет и центрально-азиатским государствам, в случае если тенденции постепенного отрыва от России продолжатся, но едва ли исключительно экономические методы помогут выправить ситуацию.
Александр Колесников поделился важными с его точки зрения фактами турецкого присутствия в Центральной Азии. «По данным на сегодняшний день Евразийского банка развития, Турция входит в тройку крупнейших стран-инвесторов по прямым инвестициям в евразийском регионе. В последнее время значительная часть уходит инвестиций в Казахстан, объем по сравнению с 2022 годом увеличился на 46 процентов и к сегодняшнему периоду в Казахстане работает более четырех тысяч турецких компаний, среди которых, например, ведущий оператор аэропортов под управлением которого находится на аэропорт в Алма-Ате. Также активно в последнее время идут контакты по оборонному сотрудничеству. Казахстан стал первой на центральноазиатском направлении страной, где начинает организовываться производство турецких ударных беспилотников. В Киргизии Турция идет на третьем месте, это более 300 компаний с турецким капиталом, в 2024 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области оборонной промышленности, крупнейшие аэропорты «Манас» и «Ош», поступили под управление турецкого инвестора. Турция работает над созданием мощных логистических центров и зон свободной торговли в портах Туркменистана, Казахстана и Азербайджана. Турция планирует нарастить грузоперевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и также активно содействует проекту железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, альтернативный логистический коридор Китай-ЕС в обход Суэцкого канала очень продвигается в турецких и деловых, и политических кругах. Резюмируя, обращаю внимание на то, что активизация Турции в зоне ЕАЭС затрагивает не только интересы России, но и многостороннее взаимодействие между странами в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Не надо забывать, что вся политика Турции, не только военно-политическая, но и экономическая, в Турции, безусловно, координируется со стороны руководства НАТО».
Александр Бедрицкий считает, что «новая роль Азербайджана состоит в том, что Азербайджан сейчас это прежде всего прокси-государство под контролем Турции и витрина успешности турецкой внешней политики. Хотя в общем и в целом в Турции-то азербайджанцев не особо любят, в отличие от отношения Азербайджана к Турции. В Азербайджане даже в провинции везде висят плакаты «Турция и Азербайджан едины», везде портреты шахидов, погибших в Карабахской войне, то есть пропагандистская машина работает на полную мощность. Известный тезис — «два государства, один народ» в Азербайджане очень хорошо воспринимается. И не только на политическом даже уровне, но и на общественном.
И отсюда следует второй момент, связанный с Организацией тюркских государств. Если Зангезурский коридор все-таки удастся создать, и он будет рабочим, то тогда ОТГ, которая сейчас представляет собой прежде всего идеологический проект, требующий относительно малых затрат, получит экономическую составляющую, которая придаст новый импульс развития для этой организации. Появится экономическая заинтересованность и центральноазиатских стран, и, возможно, Китая.
Турция использует ОТГ для создания новой общности на тюркских и на исламских ценностях, которая призвана заместить вакуум, образовавшийся после России. При этом этнократии в Центральной Азии уже фактически сложились и теперь делается акцент на формировании религиозной общности, что создаёт дополнительную опасность».
Артур Сулейманов: «Когда мы говорим в целом про конфликты на Ближнем Востоке, то они, если посмотреть на этот вопрос исторически, как правило, возникают, когда в регионе назревают системные перемены и меняются правила игры. Сегодня мы, мне так кажется, наблюдаем за новым переделом. Для США, которые долгое время считались доминирующей силой на Ближнем Востоке в целом, сегодня наступают не самые хорошие времена. Активизируются другие игроки: это не только Китай, это и партнеры США по Европе, прежде всего британцы.
Если говорить про главный параметр нынешнего ближневосточного конфликта, который влияет на процессы в Центральной Азии или на Южном Кавказе, то, наверное, стоит говорить про параметр или фактор неопределенности, фактор многовариантности. Но и про повышение значимости региона… Запад сегодня не просто так начал борьбу и за Ближний Восток, и на Кавказе. Мы все прекрасно понимаем какое влияние имеют те же самые британцы на элиты и в Азербайджане, и в Армении. Но в то же время, ситуация становится довольно критичной для Запада, что вызвано прежде всего объективными причинами — нехваткой ресурсов, тем, что страны Запада и их экономики значительно отстают от экономик стран глобального юга. Вот эти вот факторы, они и заставляют Запад реагировать.
Запад, который мы привыкли считать, что он является коллективным, оказался не таким уж и коллективным. И противоречия, которые сегодня складываются на Западе, они сегодня являются очень системными. Благополучие Европы долгое время строилось на нескольких базовых факторах: бесплатная военная помощь со стороны США, дешевые энергоресурсы со стороны России, помощь, которую оказывают международные финансовые организации для экономик Запада. Все еще не просело до критической точки, поскольку ФРС оказывает финансовую поддержку странам Европы. Какие там проходят финансы, эта информация является секретной, в том числе и для президента США. С выходом Британии из Евросоюза, ЕС утратил свою политическую субъектность, внутри идет конкуренция между Берлином и Парижем, при этом не выигрывает никто. Есть мнение, что именно британцы оказывают влияние сегодня и на властвующие элиты в Израиле. Для британцев очень важно разжечь такой пожар, который бы США просто не могли бы потушить. Британцам не нужны сильные игроки в регионе: ни США, ни Турция, ни кто-то еще. Они видят только себя как бывшую британскую империю, которая имеет там свои колонии, свои энергетические возможности и прокачивает Европу, становясь новым лидером.
Что касается России, то, когда в 2024-м году режим Башара Асада пал, многие эксперты заговорили о том, что позиции России значительно ослабли. Но буквально две недели назад, Дамаск официально обратился к руководству нашей страны и официально попросил вернуться, потому что пришло понимание, что ни британцам, ни американцам не нужен стабильный Ближний Восток не нужна стабильная Сирия. Поэтому Россия как государство, которое обладает реальным суверенитетом, вернется, если это будет отвечать ее национальным интересам».
ОТГ, ОДКБ, ШОС и другие
Об ОТГ высказался и Николай Кузьмин: «Для нас ОТГ это клуб друзей: всем хорошо, всем приятно, все называют друг друга братьями, плохих слов друг другу там не говорят, там не ссорятся. Есть лишь один конфликт: Эрдогану очень нужно через ОТГ провести легитимацию непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Мы бы, конечно, и согласились признать. Ну, и что такого, все в Северный Кипр ездят, и те же британцы или немцы там себе дома покупают. Но Евросоюз решительно против этого, и если только мы — не именно Казахстан, Азербайджан или какая-то другая страна — вдруг начнем официально обсуждать возможность признания Северного Кипра, тут же Евросоюз дает понять, что последуют санкции. Санкций никто не хочет, потому что эти санкции будут не отраслевые, а персональные, то есть самые страшные. А если у тебя дети там, если у тебя банковские счета там, ну как можно спорить с Евросоюзом? Никак».
К теме многосторонних организаций обратился и Александр Князев: «Я бы не преувеличивал эффективность ОТГ. Есть известная истина. Все региональные организации, в первую очередь те, где решения принимаются путем консенсуса, они всегда низко эффективны. В прошлом году на саммите ШОС речь шла о возобновлении работы контактной группы ШОС-Афганистан, решения не приняли, потому что «одна страна была не согласна», вопрос с повестки был снят. Немножко лучше обстоит дело в ОДКБ, на мой взгляд, но и там бывает трудно находить консенсус. В ОДКБ, например, отсутствует такая важная для любой военной оборонной организации составляющая как согласование внешнеполитических действий. Нет никаких ограничений, скажем, на взаимодействие в военной сфере страны-участницы со страной, являющейся враждебной кому-то другому из стран-участниц… Казахстан, Киргизия, Таджикистан являются участниками натовских программ, программ со странами Европы, отдельно с американцами. А такие вопросы должны быть заложены в уставные и договорные документы, должны быть оговорены, иначе какой же это военно-политический союз. Во всем виноват консенсус».
Алексей Чекрыжов подчеркнул: «События на Южном Кавказе формируют некоторые неочевидные на первый взгляд риски, влияние которых мы можем ощутить позднее. Во-первых, в информационном пространстве максимально активно создаётся негативный фон вокруг ЕАЭС и ОДКБ. Особенно сильно в последнее время достается именно ОДКБ – организацию пытаются дискредитировать прежде всего в глазах населения стран евразийского пространства. По опыту наблюдений за такими искусственно насаждаемыми информационными нарративами, можно говорить, что ничего хорошего для региона эти явления не несут. Во-вторых, исходя из последних тенденций условно «военно-политической» сферы в странах постсоветского пространства, очевидно, что Россия проседает в сфере экономизации безопасности. Например, страны Запада, Турция и государства Центральной Азии создают совместные военно-промышленные предприятия, локализируют производство беспилотников и прочих технологий. В связи с этим остаётся открытым вопрос, как преломить ситуацию по линии ОДКБ, поддержать имидж организации как стратегического гаранта безопасности региона в глазах случайного «обывателя»? В экспертной среде встречаются соображения, что экономизация безопасности может строится как раз через экономические и торговые преференции при готовности стран ОДКБ совместно развивать систему региональной безопасности. Как пример, по линии того же ЕАЭС. Тезис дискуссионный, но есть мнение, что членство в ОДКБ должно прежде всего формировать ощутимые экономические преференции, «бенефиты» в рамках Евразийского экономического союза – допустим, квоты на миграцию, облегченные процедуры торговли и т.д.
Денис Борисов, обращаясь уже к теме транспортной взаимосвязанности, включая МТК «Север-Юг», высказал соображения о том, как организовать решение проблем в этом направлении. «Конечно, Иран в одиночку не способен потянуть такую инфраструктуру — нужны совместные решения и инвестиции. Здесь вполне логично рассматривать Китай как финансового партнёра: Пекин заинтересован, поскольку Иран остаётся одним из ключевых поставщиков нефти для его экономики. Более того, на фоне прихода администрации Трампа и усиления санкционного давления Китай стал активнее вкладываться в стратегических партнёров, иногда даже выше прежних уровней. Однако в рамках ШОС продвинуть это направление вряд ли получится. Более эффективно было бы формировать отдельную трёхстороннюю площадку Россия–Иран–Китай. Такой формат позволит быстрее находить решения по конкретным вопросам, чем в больших многосторонних организациях».
«А коридоры кончаются стенкой…»
Александр Князев обратил внимание на то, что «израильско-иранский конфликт ставит под определенный удар, помимо иного, и проект МТК «Север-Юг», на это накладываются еще и сложности в отношениях России и Ирана с Азербайджаном. Пока под вопрос ставится западная ветка этого коридора, которая, к слову сказать, и прежде подавала немного надежд на развитие. Остается только восточная сухопутная ветка, через Казахстан-Туркмению, но там достаточно много сложностей технического характера, для ее масштабирования, особенно на территории Ирана, железнодорожная сеть на этом направлении требует серьезных инвестиций.
Если говорить о морском пути — неважно, об МТК «Север-Юг» или о так называемом «Срединном коридоре», то едва ли не главным является оценка такого природного явления как изменение уровня Каспия, кажется, пока никто из специалистов не сформулировал закономерности этих процессов и они остаются непредсказуемыми. В интернете гуляет скан указа Б.Н. Ельцина 1992 года об оказании помощи районам, пострадавшим от наводнения при повышении уровня Каспия. Дагестан, Калмыкию, все прибрежные регионы серьезно затапливало. Это 1992 год. Сейчас все каспийские страны усиленно перестраивают портовую инфраструктуру с учетом снижения уровня воды, роются дноуглубительные каналы и так далее. Но где гарантия того, что через 10 лет уровень Каспия опять не начнет резко повышаться? И что тогда? Это очень сложная экосистема, к которой нужно бы очень осторожно относиться. Есть у морского пути и много других трудоемких и затратных проблем.
Продолжая тему транспортных коридоров, я обратил бы внимание на то, как происходит очень искусное манипулирование в СМИ о функционировании «Срединного коридора», широтного транскаспийского маршрута. Нам говорят о каком-то росте поставок и грузов, и казахстанской нефти через Каспий, очень редко упоминая показатели в абсолютных цифрах. Объем транзита грузов по «Срединному коридору» составляет около 1% от общего грузопотока Транссиба, но наше внимание акцентируют на том, что «Срединный коридор» за 5 лет вырос в 6 раз. В 2024 году экспорт казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан составил 1,4 млн. тонн, а по КТК — более 63 и есть еще экспорт по маршруту Атырау-Самара, можно сопоставить. А еще в Китай, это все как бы упускается. Говорить об устойчивости перевозок по транскаспийскому маршруту пока абсолютно не приходится, но манипуляции с общественными представлениями подводят к выводам, прямо противоположным реальности. И понятно почему и зачем: потому что это чисто политический проект, там главное подчеркнуть: вот-вот и все потоки пойдут в обход территорий России и Ирана.
Что касается проекта Зангезурского коридора, я бы напомнил, что есть еще иранский проект Аракского или Арасского коридора, обходящего Зангезур по иранской территории. Но вообще, оценки любых вариантов по линии восток-запад как части того же «Срединного коридора» лучше рассматривать как элементы пиар-кампании. Если мы априори принимаем, что главная цель Трампа в мировой политике — это противостояние с Китаем, тогда можно и предположить, что ему удастся все-таки вынудить европейцев к участию в торговых войнах с Китаем. А много ли будет товаров тогда идти с востока на запад и обратно? Увеличится ли количество грузов? Объем упадет и, может быть, даже в разы, мы же это все прошли в ситуации российско-европейских взаимных санкций в последние несколько лет. То же самое может произойти и с торговлей между Китаем и Европой, а еще примем во внимание дороговизну этого маршрута в силу его мультимодальности. Несмотря на санкции, по тому же Транссибу, по БАМу через территорию России, а еще через территории Казахстана, России и Беларуси, идет большая часть грузов. Просто это другой порядок цен на перевозки. Да и в последнее время обращаю внимание, что очень много сообщений встречается о том, что и китайские грузы через территорию Центральной Азии, и из Узбекистана грузы, и в обратном направлении, двигаются по сухопутному маршруту через Иран по югу Каспия. Несмотря на ситуацию с рисками в Иране. Бизнес, ничего личного».
Касым Бекмухамедов: «Если развернутся более широкие военные действия между Ираном и Израилем, страны нашего региона могут, конечно, потерять возможность пользоваться транзитными маршрутами через Иран, как это было в ходе июньской войны, июньского конфликта. Ситуация может еще больше ухудшиться, если израильтянами будут нанесены воздушные удары по соответствующей инфраструктуре, а также по морским портам, по таким как Чабахар и Бендер-Аббас. Иран на сегодня получает значительные доходы от транзита товаров и энергоносителей между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Только в 1403 году (по иранскому календарю, с 21 марта 2024 г. по 21 марта 2025 г.), эта сумма превысила 1 млрд долларов. С запуском Зангезурского коридора значительный объём этих грузов будет перевозиться по данному маршруту, что, естественно, сократит доходы Ирана. По мнению иранских экспертов по экономике и логистике, это может привести к снижению экономического роста Ирана на 1-2%. Также отмечается, что с сокращением перевозок по иранской территории ослабнет стратегическое положение страны в таких проектах, как китайский «Один пояс, один путь». Этот проект отдаляет Иран от стратегического взаимодействия с Южным Кавказом и одновременно даёт Азербайджану и Турции возможность занять его место в транзите товаров и энергоносителей.
Геополитические последствия передачи Зангезурского коридора американцам заключаются в том, что они получат возможность непосредственного присутствия на северных границах Ирана, чем могут пользоваться для проведения многоплановых мер, включая установку средств наблюдения, позволяющих отслеживать военные действия Ирана. Такое изменение баланса сил на Южном Кавказе (с заметным ослабление роли России в этом регионе) имеют крайне негативные последствия для интересов Ирана».
Николай Кузьмин: «Что касается Казахстана, то ирано-израильский конфликт не затрагивает напрямую самые важные интересы ни казахстанской элиты, ни казахстанской экономики. И в этом смысле мы и не за Иран, и не за Израиль. Мы не осуждаем поставки Азербайджаном нефти или каких-то нефтепродуктов Израилю. Мы не осуждаем поведение Эрдогана тоже, который вроде клеймит Израиль, а вроде как торгует с ним. Коридор «Север-Юг» полноценно так и не заработал, порт Чабахар, который Индия собиралась превратить в мега-хаб, на начальном этапе строительства, инфраструктура от порта Бендер-Аббас в Центральную Азию тоже не в очень хорошем состоянии.
Поэтому это не главное направление для Казахстана. А вот транскаспийское направление, оно очень важно. Важно, во-первых, для нашей политической элиты. Потому что, как говорится, где твое богатство, там и твое сердце. А поскольку богатство нашей политической элиты в Европе преимущественно, то и сердце нашей элиты там же. Поэтому если Европа поддерживает транскаспийский проект, то и мы транскаспийский поддерживаем несмотря на то, что по-прежнему в торговле Китай-Европа-Китай ориентируемся на северный коридор, то есть через Россию, Беларусь, Польшу и далее, на него приходится 90 процентов контейнерных грузов, а через транскаспийский коридор, то есть через Актау, Баку и так далее, меньше 10 процентов. Поддерживаем этот проект в основном из политических соображений».
Александр Князев: «Вспомнилось по этой теме: лет 15 назад один казахстанский философ высказывал — я процитирую дословно — такую мысль, что «ментально Казахстан уже в Европе». А что касается транскаспийского коридора, то лучше вспомнить прошлогоднее заключение Всемирного банка. ВБ, я думаю, очень лоялен по отношению к транспортным проектам в обход России, Ирана. Тем не менее, они говорят о том, что «Срединному коридору» суждено оставаться маршрутом внутрирегиональной торговли между Южным Кавказом и странами Центральной Азии».
Денис Борисов: «По поводу конфликта Израиля и Ирана и его влияния на регион соглашусь: здесь есть как минимум серьёзный экономический эффект, связанный прежде всего с транспортно-логистической доступностью и ролью Ирана в связывании евразийского пространства. Но, на мой взгляд, сильнее сработал именно медийный эффект: сразу возник пессимизм в отношении развития коридора “Север–Юг” после “12-дневной войны”, которая получила широкое и яркое освещение. Естественно, это охлаждает настроения бизнеса, снижает готовность инвестировать в инфраструктуру. Такой фон негативно отражается и на интересах России. Поэтому важно продолжать работу, несмотря на информационное давление. Возможно, стоит обсуждать создание отдельной государственной структуры, ориентированной не на бизнес-логику маржинальности, а на решение стратегических задач. Этот ключевой меридианный маршрут нуждается в развитии и внутри самой России. В частности, в Новосибирске многие логистические компании скептически относятся к “Северу–Югу”, считая его более актуальным для европейской части страны. Для Сибири железнодорожная доступность Каспия ограничена высокими тарифами РЖД, поэтому часто проще использовать автоперевозки через Казахстан».
О параметрах влияния на Центральную Азию ирано-израильского конфликта
Касым Бекмухамедов отметил, что «в заявлениях иранских политиков, военачальников особо подчеркивается тот факт, что Иран не проиграл 12-дневную войну с Израилем, который поддержан США, некоторыми европейскими и другими странами, но и показал, что обладает значительным потенциалом для отстаивания своих национальных интересов. Влияние ирано-израильского конфликта на Центральную Азию, на мой взгляд, носит геополитический, экономический и религиозный, конфессиональный характер. Разумеется, наш регион географически расположен близко к Ирану, и события в этой стране так или иначе, но будут иметь последствия для Центральной Азии. Сейчас очень в Иране много пишется и говорится о возможном повторении этого конфликта. В таком случае наши страны, страны Центральной Азии, будут избегать вовлечения в конфликт. И будут вынуждены более скрупулезно, более тщательно по сравнению с предыдущим временем балансировать между геополитическими интересами крупных игроков в регионе, таких как Россия, Китай, США и некоторые другие. На мой взгляд, если произойдет повторный конфликт и ситуация в плане безопасности на Ближнем Востоке будет ухудшаться, она будет подталкивать наши страны к более тесному сотрудничеству с Россией и Китаем, таким образом наши страны будут более надежно обеспечивать собственную безопасность.
Что касается конфессионального аспекта вопроса, то, на мой взгляд, эскалация израильско-иранского конфликта может способствовать религиозной поляризации в обществе по формуле «мусульмане и немусульмане», прежде всего «мусульмане и иудеи», и росту радикализации среди части религиозной, либо социально неустроенной молодежи. Поэтому я не считаю, что конфликт между Ираном и Израилем, если повторится, не будет иметь какого-то непосредственного негативного влияния на наш регион. Оно будет».
Александр Князев: «Возобновление военных действий между Ираном и Израилем актуализирует вопрос, который всплывал и по итогам “12-дневной войны”: вопрос об использовании Израилем территорий соседних стран для агрессии против Ирана. В ходе этой июньской войны была информация, которая никем не подтверждалась, но никем и не опровергалась, так что, принимать к сведению ее нужно. Я имею ввиду информацию том, что израильская авиация заправлялась в Азербайджане, или использовала в качестве аэродромов, азербайджанские аэродромы, вторгаясь в воздушное пространство ИРИ с территории Азербайджана, то же самое касается и израильских беспилотников, в частности при осуществлении ударов по Тегерану. Если говорить о странах Центральной Азии, то я себе не очень представляю, чтобы кто-то из них дал бы согласие и разрешил использовать в таком плане свою территорию. Азербайджан в этом смысле представляет, пусть и скорее гипотетически, угрозу для всех стран региона, несмотря на все декларации о дружбе, братстве и единстве…».
Олег Столповский акцентировал внимание на сфере безопасности в связи с ситуацией вокруг Зангезурского коридора, о котором говорится много и который, нельзя исключать, может стать реальностью. «С геополитической точки зрения, мы сталкиваемся с тем, что на южном Кавказе НАТО в лице Турции получает прямой сухопутный доступ к Каспийскому морю. И, таким образом, создается прямая реальная угроза и для России, и для Ирана, и для стран Центральной Азии. Предлагаю взглянуть на Зангезурский коридор как на вероятный сухопутный маршрут, который может быть использован нашими вероятными противниками для трафика различного рода деструктивных сил для дестабилизации ситуации как на российском Северном Кавказе, так и в республиках Центральной Азии. В первую очередь, нужно говорить о боевиках международных теоретических организаций, которых на Ближнем Востоке скопилось достаточно много. И значительная часть — это выходцы с постсоветского пространства, которые в случае необходимости могут быть переброшены и в другие регионы мира. Олег Столповский напомнил о реальной практике использования боевиков из-за рубежа на Южном Кавказе в начале 1990-х годов, когда в 1-ой Карабахской войне на стороне Азербайджана воевали моджахеды из Афганистана, в основном боевики из группировки Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматьяра. В Баку функционировал транзитный пункт этой афганской партии, который осуществлял прием, размещение и переправку своих боевиков непосредственно в зону конфликта.
Достоверно известно и о такой практике во время 2-ой Карабахской войны 2020 года. В частности, по данным Службы внешней разведки России, в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воевали исламские радикалы из таких международных террористических организаций как «Джабхат ан-Нусра», «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» и ряда других. И в 1990-х годах, и в 2020-м боевики перебрасывались в Азербайджан воздушным путем в Баку и далее они уже перебрасывались в районы боевых действий. При появлении же Зангезурского коридора появляется реальный сухопутный маршрут для продолжения такой практики для создания зон напряженности на южных рубежах России, у северных границ Ирана и в Центральной Азии. В этой связи хотелось бы напомнить о многолетней стратегии англосаксонского мира в отношении России под названием «кольцо анаконды», которая предусматривает создание вокруг нашего государства плотного пояса зон нестабильности. При необходимости Зангезурский коридор вполне может быть задействован и для реализация подобных сценариев в Центральноазиатском регионе и в западных областях Китая (СУАР) путем переброски туда боевиков-выходцев оттуда. В любом случае, передача этого «маршрута Трампа» в аутсорсинг США и даже с возможным появлением там американских ЧВК, однозначно будет способствовать усилению присутствия в регионе США и действий по вытеснению оттуда России с вытекающими для нас негативными последствиями, в первую очередь, в вопросах безопасности».
Равшан Назаров сформулировал свое видение в форме сценариев: «Я вижу четыре возможных сценария. Сценарий номер 1: на Ближнем Востоке – эскалация, а на Южном Кавказе сделка закрепляется. Какие это может иметь последствия для ключевых акторов данных вопросов? Для России. Возможность краткосрочного снижения транзитных доходов в пользу «Среднего коридора». Угроза утраты переговорных преимуществ по постсоветским институтам. Усиление инструментов давления, тарифы, политические вмешательства, усиление военной помощи партнерам в Центральной Азии. То есть, соответствующие контрмеры. Китай: двоякая ситуация. С одной стороны — это рост страховых премий, с другой стороны — риски сухопутных перевозок через Иран, Персидский залив, что увеличивает ставки на сухопутный Средний коридор, но эскалация повышает военные риски на морских и прикаспийских маршрутах. То есть Китай скорее всего ускорит инвестиционные проекты по линии D, но, конечно, здесь нужны гарантии безопасности. Иран. Его геополитическая изоляция усиливается, Иран теряет часть транзитных доходов и часть своего влияния на Южном Кавказе.
Государства Центральной Азии, в данной ситуации больше, конечно, объекты, нежели субъекты, но, тем не менее, они потенциально могут краткосрочно выиграть. Возможны некоторый приток инвестиций и транзитных доходов, использование каспийских портов, но при риске кибератак и так далее. Страны региона будут по-прежнему балансировать, особенно Казахстан и Азербайджан, которые уже активизируют каспийское направление. Узбекистан будет нацелен на расширение железнодорожных проектов ввиду отсутствия морских вариантов.
Второй вариант — эскалация на Ближнем Востоке и провал сделки на Кавказе. Третий вариант — это деэскалация на Ближнем Востоке и закрепление кавказской сделки. Самый маловероятный, четвертый вариант — это провал кавказской сделки, и деэскалация на Ближнем Востоке. Из четырех вариантов, первый и второй, мне кажутся наиболее вероятными. Поэтому третий и четвертый потенциально, в ближайшей перспективе мало разрешимы.
Во втором варианте Россия свою усиливает роль как гарант безопасности для стран Центральной Азии и страны региона будут искать укрепление своей безопасности через Россию, что достаточно традиционно. Москва может использовать это для усиления своего экономического и политического присутствия. Но, конечно, есть и потенциальные риски. Например, повышенный трафик по российским коридорам может сопровождаться санкциями, страховыми издержками, перегрузкой инфраструктуры.
Усиливается интерес Китая к южным сухопутным маршрутам, особенно через Иран, но это становится более опасным и Китаю в этом случае интереснее сфокусироваться на усилении транзитных связей через Россию и развитии собственной внутренней логистики.
Иран сохранит своё политическое влияние, может активно использовать своих прокси, морские атаки для давления. Но одновременно, конечно, есть угрозы роста санкционного давления и, соответственно, страховых расходов.
Страны Центральной Азии останутся в традиционной зависимости от России в плане логистики, ну и отчасти от Ирана. Переформатирование системы инвестиций в альтернативные инфраструктуры, рост внутренних расходов на безопасность. Понятно, что государства региона скорее всего будут нести определенные экономические издержки от упущенных потенциальных транзитных доходов, уязвимость к перебоям энергопоставок и внешнему давлению увеличивается».