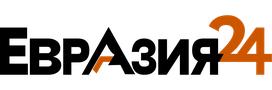Расхожая истина «история учит тому, что ничему не учит» не всегда верна. Хорошо усвоенный урок из прошлого очень даже помогает понимать настоящее.
Считайте это продолжением темы о рублевом буксире для нашей национальной валюты. Там мы оставили интригу насчет периода 1993 — 1998 годов, когда никакого буксира не было, а был прямо-таки вид на Алма-Атинские горы.

Смотрите: еще только рожденный тенге самым стремительным образом взмывает на пик… нет не высоты, а рекордного удешевления по сравнению с рублем. Потом, чуть вниз от вершины падения, некое плоскогорье, перемежаемое небольшими спусками и подъемами. И только после августовского 1998 года дефолта уже рубль стремительно обрушивается со своей высоты «один к четырнадцати» над тенге, образуя ту самую буксирную пару. А дальше, это уже тот самый постоянный буксир, с некоторыми девальвационными рывками со стороны рубля. Причем рывки только в самые экстремальные моменты: 2009 — последствия мирового кризиса, 2014 – последствия Майдана-Крыма, 2022 – начало СВО. Но после каждого ослабления рублевого буксира тенге всякий раз подтягивался к прежнему курсовому соотношению. Так было с тех пор и до наших дней, пока рублевый буксир — нет, пока не оборвался, но буксирный канат явно растягивается тормозящим теперь уже тенге и… что-то нас ждет.
И вы правы: только на уроках 1993-1999 годов мы поймем, что у нас сейчас с национальной валютой, и чего стоит ожидать дальше.
Итак, июль 1993 года: денежная реформа в России. Это всего лишь зачеркивание ноликов на новых купюрах, поскольку «деревянный» рубль к тому времени с советской стоимости 56 копеек долетел почти до тысячи за доллар. Но это не просто деноминация: Москва сознательно оставляет за бортом остающиеся еще в рублевой зоне республики, — Советский Союз закончился. Соответственно, в ноябре Казахстан вводит свою валюту, которую обменивают на «старые» рубли по курсу один к пятистам (вот эту круглую пятерку стоит запомнить). К доллару курс новорожденного тенге на тот момент составляет 4,7, тоже запомним. Получается, за доллар при обмене новенького тенге дают примерно 106 «старых» рублей. Новый же российский рубль к тому моменту дешевеет до 1,5 за доллар, — и это запомним. Итого новорожденный тенге соотносится с недавно обновленным рублем как три к одному.
И здесь, внимание, Казахстан и Россия не просто расходятся по национальным валютам, сами эти валюты начинают вести себя принципиально по-разному.
Казахстанский тенге поначалу – подлинно суверенная валюта, Национальный банк той поры эмитирует ее сугубо самостоятельно, ни на кого не оглядываясь. А тогда экономика лежит на боку, банки тоже, объем взаимных неплатежей – гигантский, работает, в основном, бартер. И вот в правительстве рождается вполне разумная идея: надо выбрать ключевые предприятия, прокредитовать их, они рассчитаются со смежниками, те – со своими, и так за один вновь напечатанный кредитный тенге можно будет сдвинуть с места пятикратную, а то и десятикратную массу неплатежей.
И вторая беда, от которой может спасти кредитный станок: потребительский рынок пуст, населению ни надеть, ни обуть нечего.
В теории – все правильно, на практике – все как у нас. Кредиты раздаются широким потоком, не все из них возвращаются. Нередко – для того и выдаются. Да, базовая ставка Национального банка почти запретительная, в районе 50%, но есть ведь и целевое кредитование. Что называется, по-родственному, для нас это святое.
И потом, тенге дешевеет так стремительно, что спокойно отбиваются даже высокие проценты. На этом – на торговле закупаемыми в кредит «адидасами», поднимаются будущие «младотюрки». Результат: к середине 1995 года тенге дешевеет уже до 60 и здесь тормозится, — начинается принципиально другая политика – «макро-стабилизации». Это кредиты «стенд бай» и это радикальная реформа ЖКХ 1996 года, которая к самому ЖКХ отношения не имела. Состоялся лишь отказ от бюджетного дотирования тарифов и перерегистрация бывших домоуправлений в КСК. То и другое означало лишь одно: государство напрочь отказывается от любой своей ответственности за жилищно-коммунальное хозяйство. (Вот вам тоже урок, который аукается сегодня).
А в монетарном и банковском смысле «макро-стабилизация», это начало политики «полной конвертации национальной валюты». По сути – превращение тенге в «местный доллар», эмитируемый уже не кредитным, а обменным образом. Все: монетарному суверенитету Казахстана на этом конец.
Другими словами, в Казахстане только к 1996-1998 годам подошли к тому, что случилось с «постсоветским» российским рублем еще в момент его рождения – внешнее управление.
На графике это и видно: в отличие от тенге, рубль дешевеет лишь умеренно, к 1995 году он опускается до пяти к доллару, в следующем году до шести и так держится до дефолта. Кредитной эмиссии практически нет, еще бы, ставка Центробанка под полторы сотни и выше процентов. Соответственно, коль скоро банковский кредит не работает, правительство поддерживает экономику продажей ГКО – государственных казначейских обязательств. Невозвратный долг копится и копится. Тем не менее, закономерный, казалось бы, августовский 1998 года дефолт правительства РФ по своим обязательствам, — явление достаточно уникальное. На порядок более редкое, чем страновые дефолты по внешним долгам. В дефолт по собственным валютам попадали совсем уже страны-неудачницы. А все потому, что рубль образца 1993-1998 годов – уже не совсем суверенная валюта. Как, впрочем, и образца нынешнего года. Но это уже другая история.
А дальше вы знаете: руль девальвируется вдвое, и тенге, только что стоивший более 12 за рубль, дорожает до менее пяти (опять берем пятерку на заметку). А потом, пока в Казахстане готовят и проводят – дело серьезное! досрочные перевыборы президента, тенге укрепляется даже до 3,7, затем наше 1 апреля 1999 года и опять привязка «пять к одному», на которой и начинается буксировка. Пятерка здесь – параметр не столько экономический или монетарный, сколько психологический, — зато какая надежная привязка!
А теперь скажем чистую правду: никакого самостоятельного определения рыночного курса тенге на казахстанской валютной бирже, в которое Национальный банк почти не вмешивался и традиционно понятия не имел, куда оно все идет, никогда не было, нет и быть не могло. По целому ряду объективных причин, начиная с того, что объем валютных торгов элементарно крайне мал. И с того, что основными игроками на этих торгах являются не частные банки и финансовый структуры, а — само государство. В лице Минфина и Национального банка. А также с того, что сами валютные торги, как и биржевые площадки, элементарно не связаны с внешним капиталом. По той элементарной причине, что в «вывозной» экономической модели, в которой экспорт сырья осуществляется по промежуточным — «трансферным» ценам, а основные торговые и финансовые операции осуществляются за пределами национальной юрисдикции, внутри страны капиталу делать нечего. Мировой финансовый рынок зашел только на Московскую биржу, превратив ее в филиал той же Чикагской. И с тех пор все «самостоятельные» курсовые вариации национальных валют постсоветских «суверенов» есть лишь оглядка на московские торги и реагирование на курс рубля, со всеми местными спецификами и интересами, разумеется.
Так вот, с июня прошлого года попавшая под санкции Московская биржа, — уже не иностранная. Рубль – далеко еще не суверенная валюта, курс рубля по-прежнему «рыночный», но его определяют уже не иностранные резиденты, а российский бизнес, и все больше и больше – политика.
А наш тенге… Представьте себе идущую на буксире баржу, которая уже перегружена, и перегружается все сильнее. Перегрузка, это давящий на тенге отрицательный внешний платежный баланс, это расходный режим Национального фонда, и это растущие проблемы правительства с бюджетом и с инвестициями.
Рублевый буксирный трос растягивается прямо у нас на глазах, но главная опасность – не обрыв. Опасность в отсутствии у тенге собственного кредитного и инвестиционного потенциала и неспособность выбора и удержания собственного курса. Да, курс нашей национальной валюты должен обрести, прежде всего, кредитный и инвестиционный суверенитет и следование национальным интересам. А что касается следования за курсом рубля — в национальный интерес Казахстана входит и такой основной румб по компасу, однако не на буксире, а своим ходом и связанным параллельным курсом. Особенно после того, как и руль выберет правильное Евразийское направление.
Времена грядут и к ним пора готовиться.