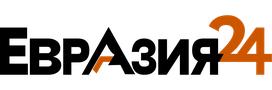Если брать мировую повестку, то вся она нанизана на совершенно умопомрачительную драму, в первом акте которой президент Трамп совершил лихую тарифную атаку на весь мир, во втором акте дал задний ход на шесть месяцев, а третьего акта достижения некоего компромисса нам еще предстоит дождаться. У нас же в Казахстане столь же лихо закручивается драма, в первом акте которой правительство попыталось заткнуть 6-трилиионную бюджетную прореху повышением НДС, во втором дало задний ход, согласившись понизить ставку и повысить планку налогообложения, а каким компромиссом все закончится — тоже придется подождать.
Компромисс – это когда обеим сторонам приходится идти на уступки, поэтому обе недовольны, зато выигрывает дело. Кто и что выиграет в результате таможенного разделения мира — будем посмотреть, а вот наша НДС-драма, уже без вариантов, оставляет всех не только без удовлетворения, но и экономику без общего выигрыша. Правительство не получает решения проблемы наполнения бюджета, бизнес все равно получает дополнительный НДС, казахстанцы – дополнительный рост цен.
Параллель с тем, что творит президент США со всем миром через таможенные пошлины, а наше правительство, через НДС – с национальной экономикой, очень даже неслучайная. То, и то – действия, на которые приходится идти от безысходности, когда иного варианта не остается: путь вперед перекрыт, но и назад уже не отступишь.
У президента Трампа, если он прямо сейчас не разберется с гигантским дефицитом в торговле с Европой и с Китаем, и с чудовищным долгом, обслуживание которого разоряет бюджет и всю американскую экономику, политического будущего нет.
А у нашего правительства элементарно нет «плана Б»: если не через НДС, то другого способа сбалансировать бюджет, а, значит, и всю казахстанскую экономику, оно не имеет.
Момент поистине экзистенциальный: судьба не просто бюджета, и не просто правительства, но и всей производственной и социальной сферы завязана фактически только на твердости характера вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина. Он-то, допустим, испытание выдержит и свою версию налоговой реформы доведет до конца. Правда, отступая под напором негодующего бизнеса и растерянных депутатов. Но в финале отнюдь не триумф, а «плана Б» так и нет, и что тогда делать?
До времени, когда неудача с попыткой решить бюджетную проблему с помощью НДС выявится в полной мере, у нас еще полтора-два года. Но хорошо бы не тогда, а уже сейчас найти ответ на вопрос: почему именно в Казахстане, в отличие от считающихся развитыми стран, на бюджет завязано гораздо больше, чем в других экономиках? И это при том, что принципиальная установка казахстанской власти – минимизировать присутствие государства в экономике. На самом же деле едва ли не вся экономическая и социальная стабильность у нас в стране держится на республиканском и местных бюджетах.
А следующий парадокс еще загадочнее: почему наш крайне перенапряженный и перегруженный как по экономической, так и по социальной нагрузке бюджет по сравнению с развитыми странами… удивительно невелик?
Судите сами: доходная часть республиканского бюджета на 2025 год 21,4 трлн тенге, это лишь 14% от ожидаемого (150 трлн тенге) ВВП. В том числе налоговые поступления 15,2 трлн, или всего 10%.
А в целом по государственному бюджету, как совокупности республиканского и всех областных, городских, районных и сельских: доходная часть 28,6 трлн, или 19%, в том числе налоговые поступления 15,2 трлн тенге или 15% от ВВП.
Между тем, доля налогов в развитых экономиках находится в диапазоне от 30 до 40 и более процентов от ВВП, в два-три раза выше нашей. Получается, налогов наш бизнес платит втрое меньше, отчего же такое ожесточенное сопротивление повышению НДС?
То же можно сказать и про соотношение бюджетов к ВВП: в развитых государствах через бюджет перераспределяется как минимум от одной трети до половины и более валового национального продукта, мы же со своими 19 процентами выглядим самой отчаянно либеральной экономикой в мире.
Известно, что самые сильные существа на свете – муравьи, они способны переносить груз, десятикратно превышающий их собственный вес. Бюджет Казахстана по размерам напоминает муравья, однако пугающе проседает уже под собственным весом. Смотрите: исполнение республиканского бюджета за первый квартал 2025 года по доходам только 83,7%, по расходам лишь 86,7%. Трансферты из Национального фонда, кстати говоря, уже 27,6%, то есть с перебором от годового плана.
И еще про Нацфонд: в бюджет заложен гарантированный трансферт 2,0 трлн тенге и еще 3,25 трлн на цели, предусмотренные президентом, итого 5,25 триллионов тенге. Тогда как объем поступлений в сам Национальный фонд, утвержденный в приложении к бюджету – 4,9 трлн. То есть, Национальный фонд из накопительного режима, ради чего он и создавался в начале «тучных лет», надежно и окончательно переведен в расходный режим.
Мало того, пяти с четвертью триллионов тенге заведомо будет не хватать, бюджет, уже сейчас ясно, придется корректировать в сторону повышения трансфертов, и, скорее всего, не один раз. А вот поступлений в Национальный фонд от иностранных концессионеров на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане, тоже уже ясно, по факту стоит ожидать меньше. Хотя бы потому, что мировые цены на нефть явно не дотягивают до заложенных в прогноз МНЭ $80 за баррель. Равно как и заложенный в прогноз курс 460 тенге за доллар надежно уже опустился далеко за пятьсот.
А теперь, на фоне нашего «муравьиного» бюджета, попробуем понять: 4,9 трлн тенге от иностранных концессионеров, которыми они расплачиваются с нашим государством, это много или мало? И насколько такой вклад иностранных добытчиков принадлежащих народу богатств недр соответствует посылу в Новый и Справедливый Казахстан?
Если брать относительно общего объема поступлений в государственный бюджет, то 4,9 трлн, это лишь 17%. Если относительно ВВП, то всего 3,2%. Можно было бы еще прикинуть, как соотносится достающаяся Казахстану доля от выручки самих концессионеров, но, извините, — конфиденциальность. И это еще большой вопрос, знают ли истинное положение дел на этот счет в самом правительстве. В любом случае, 4,9 триллионов тенге – несоразмерно мало по сравнению с тем, какую роль играет нефтедобыча именно на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане в экономике Казахстана.
Да что там в экономике: в общем идеологическом и политическом устройстве нашей страны, полностью завязанном на «иностранных инвесторов»! По существу, «стабилизированный контракт» по Тенгизу и соглашения о разделе продукции по другим двум ключевым месторождениям и есть фактическая Конституция нашей страны. К тому же, в отличие от той, что мы знаем, находящаяся под грифом конфиденциальности и полной неизменности.
Будь у правительства возможность, тогда одним только приведением отношений с иностранными концессионерами в соответствие с принятой на референдуме 2022 года нормой о принадлежности земли и недр народу можно было бы комплексно решить и проблему бюджета, и отрицательного сальдо внешнего платежного баланса, и непомерно растущего внешнего долга, и ежегодного вывода из страны доходов иностранных инвесторов и заемщиков на два и более десятка миллиардов долларов.
Но у правительства такой возможности нет. Само ли оно не решается или ему не позволяют, но и оно, и мы все, вместе с нашими властями, чудовищно зажаты как раз в главной, — экспортно-сырьевой части национальной экономики: именно в этой части присутствие государства не просто сведено к минимуму, оно обнулено.
А с другой стороны, национальную экономику мертвой хваткой зажал… Национальный банк.

Поясним.
Налогово-бюджетный механизм, если брать классическую рыночную теорию, это для перераспределения текущих потоков в экономике: государство забирает часть оборотного финансового ресурса у производителей (налог на прибыль) и у потребителей (налоги на зарплату, таможенные пошлины и НДС) и направляет их на текущее же потребление самого госаппарата, сфер образования, здравоохранения, социальной защиты. А также на содержание экономической инфраструктуры общего пользования на льготной или бесплатной основе, — общественного транспорта, городских парков или автодорог, например.
А вот что касается развития – на это есть другой перераспределительный механизм, — кредитно-банковский. Банки, уже на добровольной основе, принимают на хранение свободные деньги экономических субъектов и населения и предоставляют их в платное и возвратное пользование тем, кто собирается инвестировать в производство, или обзаводится жильем, или делать крупные покупки.
При этом уважающее себя государство регулирует коммерческий банковский процесс, направляя его в сторону развития и дополняя своими целевыми инвестиционными ресурсами.
Смотрим, что у нас по банковской части.
На 1 марта кредиты экономике составили 36 трлн тенге, в том числе бизнесу досталось 14,9 трлн, населению 21,1 трлн тенге. Кредиты населению – это голимое потребление, включая даже жилищную ипотеку. И при этом – потребление в основном иностранной продукции. Такого рода кредитование, это саботаж национального производителя и работа на иностранного, плюс обременение населения долговой зависимостью
Что касается кредитов бизнесу: это меньше 10 процентов от ВВП, тогда как в промышленно развитых странах соотношение кредитов к ВВП редко меньше половины и доходит до 150 процентов.
Да и в целом коэффициент монетизации, — отношение наличных и безналичных денег в экономике к ВВП, в развитых странах также как правило сопоставимый или даже превышающий объем валового национального продукта, у нас в Казахстане чудовищно низкий.
По итогам прошлого 2024 года денежная масса М2 выросла у нас до 39,7 трлн тенге, и это «целых» 28,5 процента от ВВП! Между тем, даже в воюющей России (Центробанк которой пока остается органом внешнего монетарного управления со стороны противника) монетизация по итогам 2024 года все же достигла 59 процентов. Тогда как у Китая, например, это 216%.
Для нас же и двадцать восемь с половиной процента — прогресс, ведь десятью годами ранее коэффициент монетизации вообще был 22%. Но что еще характерно: при всей скудности монетарного обеспечения национальной экономики, количество денег в ней все равно опережает рост реального производства. Так, с 2014 по 2024 год ВВП вырос с 39,7 триллионов тенге до 124 трлн, в 3,1 раза. А денежная масса М2 с 8,85 трлн до 35,35 трлн – в 4 раза. Вот вам и удивительно повышенный рост цен в тенге, при крайней зажатости как платежеспособности на внутреннем рынке, так и кредитного обеспечения.
Все дело в том, что давящий на рынок реальных товаров и услуг денежный избыток сосредоточен не в реальной экономике, он накапливается на финансовом рынке, отгороженном от реальной экономики запретительной для развития базовой ставкой Национального банка, но прекрасно обеспечивающей спекулятивное наращивание денежной массы и сверхдоходов банковского и финансового секторов.
Вот и получается, что фактически очень небольшой — за счет отсечения от доходов иностранных нефтедобытчиков — казахстанский бюджет, крайне перенапряжен еще и необходимостью подменять не работающий на реальную экономику банковский сектор. В Казахстане бюджет выступает и кредитором, и субсидирует коммерческий банковский процент и напрямую финансирует целые направления экономики, тот же аграрный сектор.
Что из всего этого получается можно видеть на примере главного для устойчивости и развития экономики показателя – уровня инвестиций в основной капитал. Нормально, если этот показатель составляет хотя бы 25% от ВВП, а для обеспечения роста необходимо инвестировать до трети и более от валового национального продукта. У нас в Казахстане за 2024 год инвестирование составило 19,4 трлн тенге, это 14% от ВВП – катастрофически низкий результат! Мало того, в этом убийственно малом объеме инвестирования доля бюджета составила всего 21,2% — большего он не тянет. А доля банковского кредита, внимание, только 3,8% — банки в развитии национальной экономики фактически не участвуют! Тогда как остальные три четверти инвестиций, вы уже догадались – иностранные, идущие на закрепление той же экспортно-сырьевой и общей внешней зависимости казахстанской экономики.
Осталось только добавить, что поддерживаемая Национальным банком запретительная для реальной экономики базовая ставка 16,5%, якобы для борьбы с инфляцией, не просто позволяет замкнутому на себя финансовому рынку множить денежную массу и сверхприбыли, в результате как раз завышенная стоимость денег на местном рынке инфляцию в национальной валюте и разгоняет.
Что дает основания Национальному банку еще выше поднимать базовую ставку и обеспечивать еще большую спекулятивную банковскую прибыль, проливающуюся на реальный рынок еще большей инфляцией. И так по кругу.
Суммируем.
Бюджет Казахстана, вместе со всей не работающей на экспорт внутренней экономикой, самым безжалостным образом зажат в колониальные тиски между иностранными нефтедобывающими концессиями, не делящимися прибылью со страной пребывания и собственным Национальным банком, блокирующим национальный кредит и национальные инвестиции, чтобы обеспечивать «зеленый свет» внешнему кредитованию и инвестированию.
При этом физический вывоз нефтяных ресурсов по промежуточным – трансфертным – ценам, с реализацией основной валютной выручки за границей, дополнен вывозом доходов от внешних заимствований и иностранных инвестиций, объемом еще даже большим.
В таком контексте Казахстан представляет из себя образцовую, фактически идеальную колонию, как промышленного, так и монетарного форматов, опережая любых других конкурентов на статус лучшей «вывозной» экономики в современном мире.
Этим объясняется все сразу: и то, почему при относительно очень небольшом бюджете он чудовищно перегружен, почему в разы меньшая, чем в других экономиках налоговая нагрузка совершенно непосильна для казахстанского бизнеса, и почему прямо-таки героическая, – в два раза выше уровня инфляции, базовая ставка Национального банка рост цен на внутреннем рынке не только не останавливает, но как раз удваивает.
Здесь полагается сказать, как же выходить из такого колониального состояния, но выхода… пока нет.
Если бы только провоцирующее рост цен и уход от налогов повышение НДС нашему правительству диктовали какие-то внешние силы, если бы запретительную стоимость национального кредита нашему Национальному банку навязывала внешняя администрация, тогда патриотические силы в правительстве и банковском сообществе наверняка стали бы искать и нашли способы ухода от колониальной зависимости.
Пока же, похоже, кадровый отбор сделал свое дело: правительство самым естественным для себя образом находится под само-запретом как по части пересмотра отношений с иностранными концессионерами, так и по части национализации денежно-кредитной политики. Проблема не в том, что в Министерстве национальной экономики, в АСПиР и в Национальном банке никогда не слышали о совершенно убийственных данных в части бюджетных и налоговых пропорций, в части инвестирования и кредитования, которые мы здесь приводили. Да, они все это знают. Ну и что?
Выход, разумеется, найдется. И он сложится из наложения друг на друга внутреннего и внешних обстоятельств. Внутри это убедительная демонстрация неудачи с НДС и вообще попыток правительства стабилизировать бюджет, удерживать социальную стабильность и инвестировать энергетическую и коммунальную инфраструктуру без разрушительного роста тарифов. Снаружи – это нахождение военных развязок на Украине и перенос акцентов политики России на контроль за экспортными энергопотоками и кредитно-инвестиционными процессами на постсоветском пространстве.
То и другое явно уходит за 2025 год, это 2026-2028 годы, до которых тоже очень немного осталось. Пока же Евразия-24 предлагает не терпеть, а действовать — убедительным словом. Что мы и делаем.