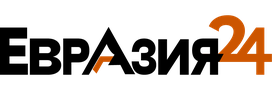Одновременно с нашим разбором исчерпанности «вывозной» экономической модели в правительстве заговорили о «сжатии» экономики как очень опасной тенденции. Еще бы не опасной, ведь по плану удвоения ВВП к 2029 году в этом году должен быть рост на целых 9,6%.
Впрочем, некоторый рост все-таки будет, — за счет экспортноориентированной части. Тогда как жесткий кризис, — сразу в бюджетном и инфраструктурном разрезах, разразился у нас именно во внутренней экономике. Что показательно: и попытка искать деньги через повышение НДС, и политика «тариф в обмен на инвестиции», тем более инвестиции внешне-заемные — это полный аналог поведения неопытного путника, попавшего в трясину: чем активнее дергается, тем глубже засасывает.
В самом деле: проблема начинающей «сжиматься» внутренней экономики — это критически низкий платежеспособный спрос населения при предельно высокой закредитованности казахстанцев и угрожающе высоком внешнем долге казахстанской экономики. И вот правительство не находит ничего лучшего, как обкладывать покупателей дополнительным НДС и навешивать на тарифы и на всю экономику дополнительный внешний долг.
На первый взгляд, такое поведение правительства кажется самоубийственным, да оно таковым и является. С другой стороны, в правительстве сидят не безумцы, а вполне практические люди, действующие в предложенных им обстоятельствах. То есть, зажатые, как в трясинном омуте, с одной стороны невозможностью посягать на интересы иностранных консорциумов на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане, с другой стороны, ограниченные политикой Национального банка, лишающего местную валюту инвестиционной и кредитной потенции.
В блокбастерах утопающего в болоте в самый последний момент спасает вдруг протянутая рука, здесь же последний шанс нам дает только… самоспасение. Увязающее в трясине нехватки бюджетных средств и инвестиций правительство, тянущее за собой всю экономику, население и государство, в силах спасти только оно само.
Речь вот о чем: о пересмотре места и роли государства в экономике.
Пока официальной государственной доктриной считается всяческая минимизация роли государства. Например, в предвыборной президентской программе 2022 года, — той самой, начинающейся со строительства Нового Справедливого Казахстана, ближе к концу стоит обязательство сократить присутствие государства в экономике до 14 процентов, и как раз к 2025 году. Задача совсем не новая и заведомо невыполнимая, по сравнению с ней даже удвоение ВВП кажется легко достижимым, но ведь как-то эти фантастические 14 процентов оказались в президентской программе! Мало того, еще в 2023 году тогдашний премьер Смаилов умудрился отчитаться о досрочном достижении этих 14 процентов!
Если брать только по стоимости основных фондов, то при известной статистической ловкости можно и так насчитать, наверное. Однако, что делать с таким тоже статистическим фактом: доля так называемого квази-госсектора в ВВП – более 40 процентов. Неужто именно эту долю государство собирается опустить до 14 процентов и что предстоит сокращать — электроэнергетику или железные дороги, нефтепроводы и нефтепромыслы, или, может быть, добычу урана?
И вообще, президентская формулировка «присутствия государства в экономике», она много шире.
У нас государство 100-процентно присутствует в тарифном регулировании, а сама сфера естественных монополий дает самое малое два раза по 14 процентов ВВП, будем ее сокращать? При том, что стоит государству чуть ослабить регуляторную хватку, эта доля пойдет как раз в рост. Мало того, политикой «тариф в обмен на инвестиции» государство и так уже подстегивает цены и свое присутствие в экономике.
Или возьмем строительную отрасль, которая 100-процентно частная, но как минимум наполовину — государственная. Это, с одной стороны, строительные заказы бюджетного и квазигосударственного сектора, с другой – субсидируемые государством ипотеки.
А мало таких примеров присутствия государства в экономике, напомним про сельское хозяйство. В котором колхозов-совхозов дано нет, которое 100-процентно частное и… процентов на 95 — государственное. Пять процентов отводим на случайный коммерческий кредит, а все прочее финансирование, — субсидирование банковского процента или прямые субсидии – государство. И если соизмерить объем госфинансирования со стоимостью частной собственности в АПК, то она уже десятикратно государственная.
Суммируем: у нас государство действительно не присутствует в экономике только на уровне СТО и автомоек, салонов красоты и кафе-ресторанов, магазинов и, может быть, ТРЦ. Весь бизнес уровнем выше – он способен существовать только в присутствии государства, если не как собственника, то как регулятора, заказчика и финансиста.
Отсюда три взаимосвязанных вопроса: а) как так получилось, что никакого частного и свободно конкурентного рынка в Казахстане нет, почти все сплошь завязано на присутствии государства в экономике? б) почему при фактической необходимости для государства во всем присутствовать, вся регулировать, все субсидировать и все поддерживать, государство упорно пытается избавить экономику от своего присутствия? в) почему давно и упорно предпринимаемые попытки государства уменьшить свое присутствие в экономике оказываются для него безуспешными?
Побережем ответы к концу, пока проиллюстрируем упорное и безуспешное стремление государства отдать свою собственность в рынок и в частную конкуренцию. А заодно и ответы начнут наклевываться.
Итак, Постановление правительства «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы», с подробным таблицами подлежащих продаже республиканских и коммунальных объектов. С самого начала исполнение шло туго, постановление постоянно корректировалось, одни объекты исключались, другие добавлялись. Перед самым транзитом, кстати напомнить, в табличке приватизируемых в приоритетном порядке оказались наиболее экономичные электростанции Казахстана, тогда по этому поводу было много шума. Потом их вычеркнули. Берем на заметку.
Эстафету подхватывает Постановление правительства «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы». Та же история: идет очень туго. Изначально план приватизации включал 736 объектов, с 2021 по 2024 год из него исключили 278 объектов, но дополнили 179 другими. В 2021 году исполнение составило 35 процентов, в 2022 году — 64 процента, в 2023 году — 68 процентов, в 2024 году — 72 процента.
До недавнего времени план утверждался самим правительством и по ходу из него исключали до половины запланированных объектов и даже больше. Теперь план утверждается еще и Высшим советом по реформам, корректировать стало труднее. Но еще труднее – сбыть с рук госимущество.
Как же так: правительство упорно выставляет на продажу все «непрофильные» активы, бизнес и все топ-эксперты в один голос твердят, что государственное вмешательство только вредит и все надо отдать в конкурентную среду, а дело топчется на месте.
Причем с двух сторон: правительство только тем и занимается, что постоянно корректирует планы, такое впечатление, что сам продавец категорически не хочет расставаться с собственностью. Так ведь и столпившегося покупателя не видно: никто выставляемое на продажу как горячие пирожки не расхватывает.
Еще один стимулирующий акт (а заодно и подсказка) — Указ президента «О либерализации экономики» от мая прошлого года. Уже без табличек, но с очень решительными формулировками: «правительству провести масштабное и ускоренное сокращение доли государственного сектора в экономике путем завершения процесса приватизации».
А вот и подсказка: «…обеспечить поэтапную отмену норм, ограничивающих свободу формирования цен и тарифов, за исключением монопольных рынков, …обеспечить практическое применение стимулирующей методологии тарифообразования в целях привлечения частных инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности сфер естественных монополий».
То есть, государство, пытаясь избавиться от собственности, заодно собирается снять с себя ответственность и за все рыночные цены в стране, кроме монопольных рынков. Тогда как у нас в Казахстане никаких других рынков, кроме монопольных, почти нет. Откройте отчеты АЗРК о состоянии товарных рынков — убедитесь.
Что же касается не просто монопольных, а главных для всей экономики и для казахстанцев естественно монопольных рынков, правительство открытым текстом собирается подманивать на них инвесторов привлекательными… тарифами! То есть, электроэнергетика, ЖКХ и прочая национальная инфраструктура, остро нуждающаяся в инвестициях, превращается в источник извлечения прибыли для частных, к тому же еще и иностранных инвесторов!
Супруг, наряжающий дражайшую половинку попривлекательнее, чтобы вывести ее на панель… По жизни это может быть очень грустная или очень стыдная история. А вот государство просто обязано исполнять свой инвестиционный долг перед инфраструктурой, иначе зачем оно?
Итак, ответы на вопросы.
Догмат, что государство – плохой собственник и управляющий, и что присутствие столь неисправного хозяина в экономике должно быть минимизировано, имеет двойное происхождение. Исходно, он был вменен нашим политическим и экономическим элитам внешним образом, как идеологическое и практическое обеспечение встраивания Казахстана в мировой рынок исключительно как экспортера сырья и импортера готовых товаров, получателя иностранных займов и инвестиций и плательщика доходов от такого внешнего финансирования.
«Неприсутствие государства в экономике» — это невмешательство в «плавающий» курс национальной валюты, в «свободно складывающийся» внешний платежный баланс, в соглашения о разделе продукции и в разгоняющую инфляцию базовую ставку Национального банка.
И здесь результат достигнут просто блестящий: мы стали буквально образцовой «вывозной» экономикой, без собственной импортозамещающей промышленности, без национального промышленного кредита и почти без национальных инвестиций.
Вторая половинка того же догмата – она местного происхождения. Институты в нашей государственности – вторичны, персональный и групповой интерес – первичен. Правящая верхушка старого Казахстана непосредственно аффилирована с бизнесом, это транслируется по всей властной вертикали, поэтому тезис о частной собственности и коммерческой выгоде греет аппаратную душу.
Но вот незадача: на пути к окончательному неприсутствию государства в экономике стоит постсоветское наследство: те самые электроэнергетика и ЖКХ, пока еще сохраняющие тарифную доступность и поэтому массовые масштабы, какое-никакое всеобщее образование и здравоохранение, пенсионное обеспечение. Которые в рамках вмененной нам «вывозной» экономики обязаны были просто скукожится до доступности только высшему классу. На этом пути, – минимизации своего присутствия в экономике, наше государство преодолело только половину, потому что натолкнулось на… себя. Руководители правительства, сплошь убежденные рыночники и почти все конкретно погруженные в частный рыночный интерес, в своих кабинетах с утра до вечера занимаются ни чем иным, как антирыночной деятельностью: регулирование, администрирование, квотирование, распределение субвенций и преференций. Потому что иначе экономика Казахстана не работает.
Вот вам и ответ, почему покупатели не торопятся: в экономике Казахстана объектов госсобственности, готовых действовать на свободном конкурентном рынке, как и самого того рынка, не осталось. Все выставляемое на продажу существует лишь постольку, поскольку имеет государство или квази-госсектор своим покупателем или заказчиком, приватизация здесь ровным счетом ничего не меняет.
Соответственно, ключевое положение новой экономики для нового Казахстана: государство в ответе за все! В ответе, как непосредственный собственник, как структурный организатор и планировщик, как кредитор и инвестор, как ценовой и тарифный регулятор. Это должно быть так в силу практической структуры казахстанской экономики, — очень небольшого объема, сосредоточенного в ограниченном количестве достаточно небольших городов, разделенных громадными пространствами. И в силу строго обратной относительно «вывозной» модели» логики: коль скоро именно догмат неприсутствия государства вогнал казахстанскую экономику в компрадорский неоколониальный формат, выход из такого положения возможен только целенаправленными государственными усилиями.
По ходу цикла мы не раз еще будем обращаться к основополагающей роли государства в экономике, а в заключение самая наглядная иллюстрация: правительство и «Самрук-Казына».
Это же надо было такое придумать: правительство, состоящее из инфраструктурных и отраслевых министерств, не управляющих инфраструктурными и отраслевыми нацкомпаниями и квази-госхолдинг, собравший под себя инфраструктурные и отраслевые национальные компании, без внятной цели и ответственности за управление ими!
Можно долго разбирать подробности, почему и когда родился ФНБ «Самрук-Казына», и почему не раз поставленный президентом Токаевым вопрос о его реформировании так и остался стоять. Но можно коротко: это изощренный способ сидеть на экономических потоках, умело размазав ответственность между правительством и параллельным квази-правительством до полной взаимной безответственности.
Мы же говорим: государство — ответь за экономику!