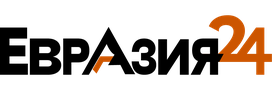Интересные получаются дела: в заглавие нашего предыдущего материала мы вынесли тему Общественного договора именно потому, что её же использовал ответственный за реформу НДС и вообще за всю национальную экономику вице-премьер Серик Жумангарин. Причём, первой эта тема прозвучала как раз со стороны экспертного сообщества, и в очень таком тревожном ключе: пытаясь нагрузить бизнес и граждан-покупателей дополнительным НДС, власти односторонне выходят из негласного, но основополагающего для социальной и политической стабильности общественного договора. Мы, Евразия24, в развитии темы выхода правительства из общественного договора тоже поучаствовали, поэтому знаем, о чём говорим.
Говорим же мы о самом, по сути, важном для нашей страны на нынешнем, очень непростом для Казахстана и буквально переломном для всего мира моменте – необходимости соблюдения согласия между властью и обществом. Если не по любви, то хотя бы по необходимости. Никому не надо, чтобы и правительство потеряло управление ситуацией, и в умах казахстанцев воцарили испуг и смятение, и улицы вскипели бы протестами.
И здесь есть смысл вернуться к нашей редакционной колонке на тему «запасного президента». И именно потому, что Председатель Сената в своей программной статье «Логика реформ 2.0: в фарватере эпохи» в самом начале тоже оттолкнулся от темы общественного договора. Буквально пошёл в атаку: «Эпоха устаревшего общественного договора, когда народ готов был закрывать глаза на дисбалансы общественно-политического и социально-экономического устройства в обмен на скромные государственные выплаты и зыбкую стабильность, завершилась. Наступило время нового общественного договора, основанного на гарантиях справедливого распределения ресурсов во благо всех граждан страны, — эпоха Нового и Справедливого Казахстана».
Атака, прямо скажем, через минное поле, прежний общественный договор и на самом деле рушится, а новый – каков он?
Если брать ту самую статью, то вызовом для всей мировой экономики является ни много ни мало, словами председателя Сената, «меняйся или умри». В практическом плане для Казахстана, говорится там же, это означает, что «мы должны как можно быстрее вписаться в закрывающееся окно возможностей на рубеже эпох, чтобы занять приемлемые стартовые условия в предстоящей гонке за будущее. Именно в этом исторический смысл, миссия и, главное, своевременность очередного этапа президентских реформ: войти и удержаться в фарватере глобальных трендов новой цивилизационной эпохи».
Там же говорится, что «у нас просто нет другого варианта, кроме интенсивного движения вперёд. Сегодня, в эпоху кратного увеличения роли нового технологического уклада, стремительного развития инноваций, цифровизации и искусственного интеллекта в глобальном масштабе, для обеспечения устойчивого и инклюзивного роста нашей экономики жизненно необходимы новые подходы».
Сказано очень правильно и совершенно ни о чем: в какие именно действия казахстанской власти постановка вопроса «меняйся или умри» должна вылиться, и под каким новым Общественным договором мы с вами должны подписаться?
Расшифровка, впрочем, имеется: «концептуальная метацель следующего витка президентских реформ, соответствующая вызовам наступающей цифровой эпохи, заключается в отходе от преобладания сырьевой модели, диверсификации экономики и создании благоприятной среды для инноваций и высокотехнологичных обрабатывающих производств. Именно на достижение этой цели направлен главный стратегический документ страны — Национальный план развития Казахстана до 2029 года, утвержденный Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в августе прошлого года».
Ну что же, если председатель Сената не боится вступать на минное поле, идём вслед за ним! Национальный план развития Казахстана основан на удвоении ВВП к 2029 году, — такая основа для Нового Общественного договора вполне устраивает. Только как быть с правительством, которое благополучно провалило задание по росту ВВП на 2024 год и не дотягивает до половины задания на год текущий?
Впрочем, зачем нам цифры, если слова произносятся безупречно правильные: «Ключами к структурному обновлению и устойчивому росту экономики должны стать следующие принципы: экономическая либерализация, благоприятный бизнес-климат, сбалансированная фискальная и монетарная политика, формирование современной инфраструктуры, усложнение экономики за счет технологичных производств, развитие человеческого капитала».
Но тут вот какое дело: объективные обстоятельства складываются так, что стране и населению приходится «затянуть пояса потуже». Если идти по контексту «логики реформ 2.0», это «переход на стимулирующие механизмы формирования тарифов — для привлечения частных инвестиций в сферы естественных монополий. В течение ближайших трёх лет будут поэтапно отменяться ограничения в части формирования цен и тарифов. Это позволит устранить нерыночные механизмы, приведшие к системным провалам и изношенности всей инженерной инфраструктуры в предыдущие годы».
Добавим от себя: потом эти инвестиции, вместе с прибылью, будут возвращаться через тариф. Не хотелось бы подписываться под договором, где потребители через двойной тариф будут обеспечивать прибыли частным «инвесторам», особенно иностранным.
Далее, по «логике реформ»: идёт «предложение о поэтапном переходе с прямого субсидирования АПК к предоставлению доступных льготных кредитов по ряду направлений в сельском хозяйстве. Да, слом неработающего механизма будет болезненным для некоторых фермеров на короткой дистанции, но в средне- и долгосрочной перспективе обеспечит рост вместо выживания».
Наша реплика: сельское хозяйство, действительно, скорее выживает, нежели растёт и, действительно, сплошь на государственном финансировании. Но разве «доступные льготные кредиты», не есть урезанное продолжение того же государственного финансирования? И где, ни в отдаленном будущем, а прямо сейчас, промышленный кредит и инвестиции от казахстанских банков?
И самое главное, если брать не общие правильные установки, а конкретные действия правительства: «нам предстоит тяжёлая, но необходимая налоговая реформа».
Формулировки в «логике реформ» аккуратные: «увеличение доходной части бюджета без избыточного давления на население и бизнес, оптимизация расходной части бюджета».
Фактически же сторона бизнеса и сторона населения в новом общественном договоре с властью будут иметь: а) совокупный рост тарифов и общий рост цен на потребительском рынке; б) падение покупательской способности и сжатие всего не экспортно-сырьевого сектора экономики вместо роста.
Подведём итог.
Положение и на самом деле кризисное, правительству объективно приходится идти на непопулярные меры. И прежний общественный договор, по которому власти жили собственной жизнью «в обмен на скромные государственные выплаты и зыбкую стабильность» и на самом деле заканчивается. Ну так меняйтесь или умрите!